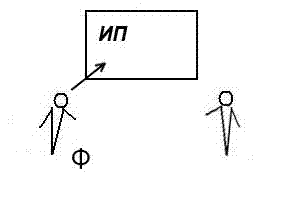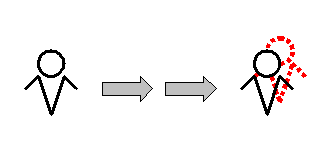Введение в философию. Лекция 15. Этос, топос, логос и праксис философа (расшифровка)
19 марта 2009 г.
В.М. – Владимир Мацкевич
С.М. – Светлана Мацкевич
Т.В. – Татьяна Водолажская
А.Е. – Андрей Егоров
А.М. – Андрей Мирошниченко
А.К. – Андрей Комаровский
А.Л. – Алексей Ластовский
В.А. – Валентин Акудович
Д.Г. – Дмитрий Галиновский
В.М. – Я начну с отсылки к предыдущим лекциям, причём даже не к последним лекциям, а к тому, что звучало, в частности, от Егорова где-то в комментариях-обсуждениях первых же лекций, и звучало это как удивление – с одной стороны, а с другой стороны – как упрёк в том, что я не рассказываю в этих лекциях свою философию (в том смысле, что я не рассказываю то, что можно было бы прочитать про какие-то мои философские идеи в тех статьях и книжках, на которые я сам ссылался как на философские), а рассказываю какую-то такую отстранённую историю философии, как будто бы она мне известна. С другой стороны, звучали удивления и упрёки в том, что я не рассказываю, как обещал вначале, про мышление, а рассказываю про институт философии, про диалог, идеальный план и всякие такие конструкции, вместо того, чтобы, как обещал, выходить на ту же самую историю изменений представлений о мышлении – о самом мышлении и о том, как я это себе представляю. И я несколько раз отвечал на эти упрёки и удивления тем, что говорил, что я никак не могу перейти, собственно, к мышлению, пока не сказал одного, другого, пятого, десятого и т.д. И, наконец, как мне кажется, я добрался до того момента, когда я могу начать об этом говорить.
Но в чём состоит тот перелом, тот рубеж, который мне надо перейти, чтобы потом начать об этом говорить? – Этот рубеж для меня замыкается на индивидуальности философа. В этом смысле, индивидуальность – как вторая тема, или второй топ темы заявленных лекций, был введён с самого начала, т.е. говорилось: вот – мышление, вот – индивидуальность, и это будут два содержательных компонента, через которые я буду выворачивать и выкручивать всю философию, как я это себе представляю.
Но, как я сегодня понимаю, мне достаточно трудно занять по отношению к этому такую собственно лекторско-преподавательско-профессорскую позицию, в том смысле, что у меня переизбыток рефлексивности, не дающий мне в этом смысле возможности говорить, что то, как я говорю – так оно и есть.
С другой стороны, у меня не достаточно идентификации с неким общепризнанным, или легитимизированным, подходом, от имени которого я бы мог говорить. Вот я говорю как методолог, как СМД-методолог, как последователь Московского методологического кружка, но я уже настолько далеко, как мне кажется, оторвался от ММК, что у меня язык не поворачивается сказать, что то, что я говорю, или то, что я рассказываю-излагаю, это и есть философия, или позиция ММК. В этом смысле, я ни в коей мере не открещиваюсь от ученичества, от того, что я адепт Московского методологического кружка, и что всё, что я знаю, базируется на этом подходе, но я вижу себя, как того карлика, стоящего на плечах гиганта, который видит дальше не потому, что он гигант, а потому, что оно стоит на плечах гиганта. Но, тем не менее, карлик, стоящий на плечах гиганта и пользующийся этим преимуществом, не является гигантом – это два разных субъекта. И, как шутят иногда по этому поводу, когда эту фразу произносят – а фраза эта имеет, как я прочитал у Умберто Эко, по крайней мере, полуторатысячелетнюю историю с тех пор, как была впервые произнесена – так вот, как шутят иногда в ответ на эту метафору: говорят, что тут для карлика очень важно не запутаться в шевелюре гиганта, на плечах которого он стоит, и не принимать эту шевелюру за рассматриваемый горизонт.
Так вот, базируясь и основываясь на идеях ММК и Георгия Петровича Щедровицкого, я всё-таки говорю вещи, которые, наверное, в ММК или у самого ГП вызвали бы кучу возражений, несогласий и вообще местами могли бы быть не распознаны, как происходящие из ММК. И, в этом смысле, мне нужно каким-то образом предъявить эту самую индивидуальность, после чего я могу говорить в большей степени от себя и высказываться от себя. Но, чтобы её предъявлять, недостаточно «яканья» и просто самости, необходимо разобраться с тем, чем сформирована индивидуальность философа, говорящего вещи, которые он говорит. И здесь ещё один аспект, который в тезисах я так или иначе отразил – он связан с перечнем категорий, вынесенных в тему сегодняшней лекции: этос, топос, логос и праксис философа. А, например, почему не поэзис и всё прочее?
И как раз здесь мне приходится говорить, что так или иначе все эти четырнадцать лекций были в режиме поэзиса, и понимать их, трактовать их нужно именно таким образом: говоря о философии как о некой противолежащей мне деятельности, я говорю, как бы глядя на философию со стороны – т.е. такой рефлексивный взгляд на философию. С другой стороны, этот взгляд не был взглядом непредвзятого наблюдателя, он был взглядом наблюдателя активного, который пытается с этим – о чём он говорит, т.е. с философией – нечто сделать. И время от времени, говоря о философии, я говорил и о философе с именем собственным, или о фигуре, позиции философа в схемах института философии или в схемах вводимого идеального плана – и о философе я говорил в третьем лице: «Он». И в этом смысле, моё говорение было, скажем так, нормативно-дескриптивным: я либо описывал некого философа (не себя, а его), либо задавал для него некую норму деятельности.
И прежде чем перейти к обсуждению собственной философской программы, к обсуждению того мышления, которое я мыслю, говорю и культивирую его, я должен восстановить ту самую индивидуальность и того, кто это будет говорить от первого лица – потому что говорить об этом в третьем лице, для меня означает нефилософское отношение; это может быть историко-философское отношение, критико-философское отношение и т.д., но не философское как таковое. Философия всегда должна делаться от первого лица. Но это не означает, что любой студент, пришедший на 1-й курс и начинающий изучать философию, обретает право участвовать в длительном и многовековом философском разговоре от первого лица. Для этого надо ещё такое право обрести, или овладеть этим правом.
И что, с моей точки зрения, даёт вот это право, через что это право обретается? Возьмём редуцированную схему, которую я вводил много раз по разным поводам и в разных редукциях – стояние перед доской, перед идеальным планом, двух фигур, ведущих между собой философский разговор, и одна из этих фигур является собственно философом. И дальше по поводу этой редуцированной схемы философии я говорю следующее: почти всё, что является достойным быть-присутствовать в философском разговоре, выносится так или иначе в идеальный план, и там рисуются-изображаются понятия, схемы, идеальные объекты, там же размещаются категории, онтологии и т.д. (Рис. 1.1).
Рис. 1.1
Но есть ряд понятий, которые бессмысленно рисовать, или воссоздавать, в идеальном плане, потому что, будучи помещены в идеальный план, идеализированы, эти понятия, категории, идеальные объекты утрачивают большую часть своего содержания и специфики – они теряются в идеальном плане.
Т.е., например, когда поэты пишут стихи про любовь, или писатели пишут романы про это же, то в этих романах или стихах своеобразными художественными методами так или иначе достигается полнота задания той категории, которая составляет в данном случае содержание – эта самая любовь. Если мы попробуем передать тему любви, например, психологам, физиологам, биохимикам и т.д., то они тоже много чего про это могут рассказать и вынести это так или иначе если не в идеальный план, то, по крайней мере, идеализировать это некоторым образом и рассказать: «Любовь есть особая форма движения белковых тел и т.д., и т.д.», но собственно от любви ничего в этом месте не останется. Или, например, такое понятие, как честь. Можно кодифицировать честь и составить, например, кодекс чести философа, и даже поместить его в идеальный план, нормировать и требовать затем реализации этой нормировки, но это будет, в общем, дурь полная.
И тогда такого рода понятия – несмотря на то, что так или иначе их проецируют в идеальный план – собираются во всей полноте не в идеальном плане, а на индивидуальности философа. И, собственно, эта индивидуальность тогда обретает какой-то смысл (превышающий бытовое, расхожее представление об особости индивида, индивидуальности как таковой), когда это всё каким-то очень своеобразным способом собирается на индивидуальности философа и делает этого философа, если хотите, «денди» философии – того, кто задаёт школу, направление, формирует вокруг себя институт философии.
Вот я уже несколько раз ссылался на одну дискуссию, которую видел на российском телевидении по каналу «Культура», когда ведущий некого ток-шоу собирает за столом шесть российских философов и задаёт вопрос: «А что означает быть философом в России, и кто в России является философом сегодня?». То же самое можно адресовать в Беларусь и спросить: «Ну а кто в Беларуси сегодня является философом?». Когда присутствующий здесь Акудович с подачи г-на Якубовича собирал однажды круглый стол в газете «Советская Белоруссия»…
В.А. – Я не збіраў… Крый Божа. Не-не.
В.М. – Ну, ладно. Людмила Рублевская там собирала, сам Якубович это собирал – не важно.
В.А. – Ну, з яго пасылу, тым не менш.
В.М. – Там собрали, по-моему, шесть человек. И, в общем, резонный вопрос: а почему там не было других философов, например? Или, скажем, когда Тоня Елистратова организует дискуссии в ЕГУ, то всякий раз возникает вопрос при обсуждении какой-то философской темы – «Кто её будет обсуждать?» – ну, например, Мацкевич и Альмира Усманова, – и мы собираемся и начинаем собачиться по этому поводу, а вот г-н Миненков, скажем, сидит в зале; другую тему – обсуждает Светлана Мацкевич с Миненковым. И всякий раз тогда вопрос о том, кто является в Беларуси философом, когда нужно привлечь его к соответствующей ответственности, должен решаться индивидуально: кто является в Беларуси философом? Может ли любой выпускник философского факультета, у которого в дипломе написано, что он философ, попадать в список кандидатов на то, чтобы быть сегодня в Беларуси философом?
И всякий раз, когда мы говорим, про философию в залоге, связанном с индивидуальностью, мы упоминаем имена собственные. Например, говорим: «18 век – Кант», «19 век – там уже сложнее: вначале, например, Шеллинг, но быстро уступает место Гегелю, Гегель – Марксу». И дальше начинается какая-то чехарда: кто сегодня в России философ? Кто сегодня в Беларуси философ? А кто сегодня философ в Германии? Или, например, кто является философом 20-го века, или конца 20-го века, начала 21 века? – и прочие вещи. И вот, по прошествии веков, этот вопрос решается гораздо проще: про 18-й век мы можем сказать достаточно определённо: современники – например, Христиан Вольф и Иммануил Кант – в восприятии наследников, или тех, кто живёт сегодня, воспринимаются, или рейтингуются, достаточно однозначно: «18 век – это Кант! А, ну, конечно, был ещё Христиан Вольф, а был там ещё кто-то: Лессинг был и т.д., были, в конце концов, «Буря и натиск», которых тоже можно причислять к философам (по крайней мере, Гёте) и т.д., но это уже в остальных эшелонах».
Но вот эта индивидуальность – она крепнет и определяется с выдержкой. Например, для того чтобы быть философом с индивидуальностью, наверное, надо быть «выдержанным» века два-три, и тогда можно с полной уверенностью говорить: «время Декарта», «время Канта», «время Гегеля» и т.д. И через это строится соответствующий институт философии, который мы реконструируем, уже оглядываясь назад.
А как быть с современниками – это всегда сложно. Причём, я думаю, для философии этот вопрос, в общем, никогда всерьёз не ставился. Например, в области литературы этот вопрос был поставлен давно, и сами литераторы, а также литературные критики и те, кто интересуется литературой, по отношению к этому вопросу заняли такую скептическо-циничную позицию, говоря, что мы этот вопрос решать не будем. Кто из ныне здравствующих литераторов претендует на то, чтобы быть классиком? Как правило, выясняется, что те, кого ценят современники, за редким исключением, как раз не становятся классиками в будущем.
Так вот, с индивидуальностью философа – это примерно такая же штука. И тогда быть философом в этом смысле означает ровно две вещи. Про первую вещь я говорил достаточно много – про устройство идеального плана, про то, что туда попадает, как оно туда попадает, как оно там размещается, как оно там всё устроено. А вот про те философские наработки, которые собираются в своей полноте не в идеальном плане, а в индивидуальности философа, я собираюсь поговорить сегодня.
Это, собственно, такое длинное введение в сегодняшнюю тему.
И вот, относительно этой сборки, я ограничился тремя – вернее, четырьмя – наименованиями: этос философа, топос философа, логос и праксис философа.
Почему скорее тремя из названных, а не четырьмя? Потому что (заглядывая уже потихоньку в конец этих лекций), праксисом я буду в большей степени интересоваться в последующих своих лекциях.
Я должен сказать, что уже близится к концу семинарский сезон, и до конца сезона, я надеюсь, будет ещё несколько моих лекций, помимо докладов, которые их перемежают, и вот эти лекции я собираюсь посвятить, собственно, праксису, или тому, что я сам делаю в философии, потому что обсуждать праксис в философии без индивидуального действия философа считаю невозможным.
А этос, топос и логос философа я хочу немножко обсудить сегодня с той степенью углублённости в это, какую мне позволит регламент, ваши вопросы и моё окаянство.
Здесь – промежуточная точка. Есть ли вопросы, тезисы, суждения, возражения?
Т.В. – Вы в самом начале сказали, что предыдущие лекции читались в одном залоге, а сейчас Вы будете в каком-то другом залоге их читать. Ну, про индивидуальность. Последнее, что Вы говорили, – это же всё равно будет такое либо дескриптивное, либо нормативное описание? Ну, т.е. Вы как-то вначале говорили про разделение: то, как Вы до этого читали, и как сейчас.
В.М. – Да.
Т.В. – Но пока, по-моему, этого не было. Или это будет дальше?
В.М. – А, да.
Т.В. – Т.е. это – другой залог обсуждения. Вы как-то по-другому будете это говорить? Мы ведь и раньше как-то обсуждали – «об идеальном плане». Сейчас Вы будете говорить «об индивидуальности философа». Ну, не знаю, мне кажется, всё равно залог такой же.
В.М. – Почти. Ну, вот, смотри, как мы можем различать залог – и про это в тезисах я немножко проговорил, не проговорив сейчас, – это связано как раз с философским поэзисом.
Понимаете, вот я, говоря о философах в третьем лице, до этой лекции говорил: «Вот – Анаксагор», «Вот – Сократ», «Вот – так кто-нибудь ещё: Локк, Декарт и ещё кто-нибудь», «Вот они делали то-то, оказывались в каких-то ситуациях и т.д.», и, говоря нормативно об этом, я выносил эту нормативность в некоторую схему. Но я постоянно подчёркивал примат ситуации для этого говорения, говоря, что эту нормативность я задаю задним числом относительно них. Но я никогда не говорил столь открыто и откровенно, что, рассказывая про Анаксагора, я рассказывал про себя. Я рассказывал как бы про Анаксагора, но, на самом деле, никакого Анаксагора не было (по крайней мере, того Анаксагора, про которого я рассказывал – его не было; наверное, был какой-то другой Анаксагор). И поэзис этих лекций заключается в том, что я проецировал в имя собственное Анаксагора себя, Анаксагор был моим, так скажем лирическим героем. Но подавалось это всё в квазидескриптивном залоге. Я не могу, например, сказать, что Анаксагор должен действовать так-то и так-то – приписать Анаксагору такие действия. Я могу говорить по-другому: Анаксагор действовал так-то и так-то, и я из этого могу извлечь норму и записать её в схему. Теперь, когда я записал её в схему, я как бы нормировал деятельность Анаксагора, придал этому некий квазиидеальный характер. «Вот она – норма», – говорил я.
Теперь я говорю, что надо не торопиться реализовывать и пользоваться этой реконструированной нормой при организации собственного действия – потому что ситуация может оказаться другой и на месте Перикла может оказаться другой визави, другой персонаж и т.д. Поэтому я сейчас говорю, что, читая эти лекции, надо осторожно относиться к этому как норме, организующей собственное действие.
А вот как можно организовывать собственное действие, оказавшись на месте Анаксагора?.. Ну, сейчас это всё равно будет разговор «в пользу бедных», потому что никто из нас не может оказаться на месте Анаксагора. А как бы Анаксагор – тот, из моей нормы, – действовал сейчас, в этой ситуации? И тогда, говоря сейчас в другой модальности, я говорю: «Если раньше я рассказывал о себе в образе Анаксагора, то теперь я могу говорить даже об Анаксагоре, но иначе, не говоря, что «я таким образом в той ситуации понимаю эту норму», а говоря о том, что: «если бы Анаксагора перенести в мою ситуацию, то что бы делал он».
Я объяснил?
(Пауза)
Ну, тогда, не знаю. Сформулируешь это в качестве возражения и наезда какого-нибудь.
Ещё есть реплики и замечания по этому поводу?
Тогда я перехожу к разбору тех четырёх топов, которые сегодня собирался обсуждать.
Я, наверное, воздержусь от попытки сформулировать относительно этоса философа некую философскую этику, которая могла бы быть распространена на какой-то более широкий круг людей, пытающихся примерить к себе гордое звание философа. Говоря про этос (в отличие от этики), я не формирую предписания на поведение философа, и я не описываю некое среднестатистическое поведение философа. Говоря про этос, я могу выставлять прецедент и говорить, что в данном случае философ, задаваясь вопросом «Как он должен себя вести, как он должен себя держать и т.д.?», может формулировать эти вещи только по отношению к самому себе. Более того, скажу я, это (формулирование этоса?), начиная с некоторого исторического периода (а именно, с появления на свет Божий института философии) – вообще прерогатива исключительно философов. Только философ – и никто другой на протяжении двух с половиной тысяч лет европейской цивилизации – может формулировать этические суждения, или директивные суждения в плане этоса, по отношению к одному единственному персонажу, каковым является он сам. Т.е. все другие этические рассуждения касаются большего количества людей, которые себя как-то ведут, или себя как-то держат, и только философ формулирует суждения этоса – («этоса» – чтобы не говорить «этические суждения»; этические суждения – они, как правило, генерализованы) – только по отношению к одному единственному персонажу, который волен действовать так-то и так-то, как ему предписано, и этот персонаж – он сам.
Т.В. – А зачем формулировать этот этос, если он является только его собственным этосом? Ну, действует себе и действует…
В.М. – А философ не может позволить себе вести себя неосознанно и прятаться от публичности.
Т.В. – Подождите, действие – это ж не прятанье от публичности.
В.М. – Если оно не озвучивается публично, то это не публичное действие. Философом нельзя быть так же, как, например, шпионом. Вот, скажем, Штирлиц в тылу врага ведёт себя определённым образом и этот образ его поведения, или того, как он себя держит, как он себя ставит, не распространяем ни на кого другого в элите Третьего рейха; то, что он делает, то, как он себя ведёт, присуще ему одному – Штирлицу. Но было бы глупо, если бы Штирлиц декларировал своё поведение, предъявлял его, и формулировал свой этос публично, вслух. Это бы обозначало, как минимум, автоматическое разоблачение его подрывной шпионской деятельности. И в этом смысле, философ является полной противоположностью. Он, скорее, напоминает того древнеукраинского князя Святослава, который, прежде чем начать войну, посылал гонца с предупреждением: «Иду на «Вы»». И в этом смысле, этос философа формулируется примерно таким образом: «То, что я делаю, я сначала проговариваю». И только по соответствию проговоренного и реализованного мы можем говорить о полноте философского этоса.
А.Е. – Я так понимаю, что всегда есть этос только одного индивидуального философа.
В.М. – По отношению к философам, говорю я сейчас – задним числом – это так. И это – то, что изображено на идеальном плане, и это – как та норма про институт философии, про философа, про которые я рассказывал на предыдущих лекциях. А сейчас – другое время, и, прежде чем я такие вещи могу записать на доску, в идеальный план, я должен реализовывать это на себе. Грубо говоря, до того, как предшественники Сервантеса написали кучу рыцарских романов, пока Ариосто написал про «Неистового Роланда», пока Вальтер Скотт не переложил это в популярные книжки для старшеклассников, тем не менее, предполагается, что существовало рыцарство, где рыцари вели себя в соответствии с представлениями о рыцарской чести и достоинстве и вели себя, вроде бы, как индивидуальности в этом плане. Но их поведение было всякий раз нормативно-образцовым – с одной стороны, а с другой стороны – оно постоянно сталкивалось с разного рода отклонениями от той нормы, которую предлагают. И в этом смысле, романы, поэмы про «неистовых роландов», включая и придурковатых «дон кихотов» – они описывали частный случай, или эпизод, в реализации таких понятий, как «рыцарская честь». Тогда как «философская честь» в таком же режиме отстаивается философами, но её содержание меняется. И если рыцарь раннего Средневековья, заседающий за круглым столом у короля Артура, – это одно дело, а рыцарь, которого описывает Хёйзинга в «Осени Средневековья» при бургундском дворе, – другое дело, а мушкетёры – третье, а дуэлянты конца 19-го – начала 20-го века, которые превращают все эти вещи уже в чистую пародию – это уже совсем другое дело, то представления о философской чести, или философский этос, – он ещё в большей степени связан с ситуацией, в которой живёт философ, и в ещё большей степени зависим от той формулировки, которая по этому поводу даётся в идеальном плане.
Поэтому, говоря об этосе, я могу в общем виде сказать, что вот такого рода индивидуальный этос – это характерно для всех философов всех времён и народов, по крайней мере, это характерно для тех философов из предыдущих эпох, которых мы знаем по именам собственным, после той выдержки в триста лет, о которой я говорил выше; и в точно такой степени это распространяется на тех сегодняшних философов, если, соответственно, они могут проговорить некоторые положения, касающиеся собственного этоса, вслух, сделать их публичными и, в этом смысле, верифицируемыми через другого. Поэтому, скажем, Гегель, вводя категорию «иного», или «другого», фактически, закладывал основания для, если хотите, проверки серьёзности такого философского этоса.
Но это всё пока общие рассуждения, после которых я должен проговорить некоторые аспекты собственного, индивидуального этоса, чтобы наполнить их содержанием. И тогда мы можем подходить к полноте (ну, к относительной полноте) тех категорий, которые не стоит собирать в идеальном плане, а имеет смысл собирать на индивидуальности философов.
Собственно, почему я, говоря про сегодняшнюю тему, вынужден был апеллировать к поэзису, или автопоэзису, говоря о том, что в лице персонажа «Анаксагор» я, в общем-то, описывал себя, и во всех остальных философах, которых я упоминал в своих лекциях, я так или иначе описывал себя? Это нужно только для того, чтобы сейчас я мог заимствовать из того, что я описывал тогда в нормативно-дескриптивном, отстранённом режиме и в третьем лице, применительно к себе в первом лице и уже не в отстранённом виде как некоторую реконструируемую норму, а как регулятив собственного поведения.
Понятно, да?
И тогда я обращаю вас к предыдущим лекциям и говорю: «Можете ли вы представить себе мой этос без радикального сомнения?». И я утверждаю, что попытка интерпретировать моё поведение, или моё держание, самодержание, как-то иначе, без того, зафиксированного ещё применительно к так называемому осевому времени требования на радикальное сомнение… Это является не просто дескриптивным утверждением о том, как существовала философия во времена радикальных скептиков древности или потом (скажем, во времена Декарта или ещё кого-нибудь) – это является регулятивом поведения. Если философ сегодня не сомневается – то это не философ, а дерьмо собачье. Причём, в чём сомневается? А во всём.
Вот теперь, когда я говорю «философ», это есть буквально имя собственное, и оно обозначает не «Анаксагор», а «Владимир Мацкевич».
И все утверждения относительно всех остальных аспектов функционирования института философии в этом смысле могут быть переинтерпретированы в этосе философа как регулятивы его деятельности, т.е., например, философ непременно является «разговаривающим». Причём, с кем он разговаривает? Всякий раз, когда он разговаривает, он разговаривает с практиком, т.е. он, видя напротив себя визави, восстанавливает «Перикла», или тех персонажей, которые в платоновских диалогах разговаривают с Сократом, будь то сапожник, горшечник, Критий, Протагор, Теотет или ещё кто-нибудь (в диалогах Сократа это всякий раз превращённый, или воплощённый, практик – анаксогоровский «Перикл» или ещё кто-то). И поэтому, фактически, в этос философа входит набор экспектаций по отношению к поведению того, с кем философ вступает в разговор.
Наверное, это не так понятно и чётко, хотя мысль очень простая, но вне поведенческих реакций, вне сборки этого на самом себе я этого объяснить не могу. Более того, видя в любом своём собеседнике, с которым он разговаривает, практика уровня «Перикла», философ, соответственно формирует то содержание разговора, которое достойно разговора практика и философа. Именно поэтому философ в разговоре выступает фигурой, раздражающей всех и вся, присутствующих при разговоре или вступающих в разговор с философом, потому что люди приходят с разными этосными (чтоб не говорить «этическими») установками в разные ситуации: они приходят, например, развлекаться, тусоваться, иногда – работать, иногда – вступать в коммунальные отношения и т.д. И в общем, если там не оказывается какого-нибудь идиота, который не понимает ради чего люди там собрались, и как положено вести себя в этом «монастыре», то так всё и происходит: собравшиеся тусоваться – тусуются, собравшиеся выяснять коммунальные отношения – выясняют коммунальные отношения, собравшиеся работать – работают. И только появление философа, и начало разговора приводит этих людей в некоторое замешательство: вместо того, чтобы выяснять коммунальные отношения, философ начинает выяснять концептуальные основания.
Грубо говоря, философ носит с собой в качестве материальных атрибутов своего этоса доску, и всякий разговор ведёт с помощью этой доски. Причём именно доску, а не блокнот, в который можно записывать. Вот, скажем, исследователь, – этолог, ещё кто-нибудь – берёт с собой блокнот и начинает в этот блокнот записывать: «факты, события, люди», то, что он наблюдает, что становится достоянием его внимания в этой ситуации. Философ блокнотов не ведёт: в том смысле, что написанное философом на доске, – грифельной доске, восковой дощечке, школьной доске и т.д. – подлежит стиранию: написали, немного обсудили, встретили некорректности, противоречия или ещё что-то, и всё – это должно быть стёрто. Из блокнота этолога или этнографа ничего не стирается – оно потом каким-то образом осмысляется и т.д. В этом смысле исследователь, типа этолога или этнографа, не обязан сомневаться, философ же с доской, на которой нельзя поместить больше одной схемы (нельзя поместить двух схем) должен стирать наброски, становящиеся предметом обсуждения, разговора, критики и рефлексии, чтобы заменять их новыми. В этом смысле, наличие доски является материальным воплощением радикального сомнения философа. И именно это, а не что-либо другое (не личные дурные качества, не невоспитанность или ещё что-нибудь) – является источником раздражения, или следствием того раздражения, которое привносит философ своим поведением и своим держанием в любой разговор, в который он ввязывается. И именно это представляет собой воплощение чести и достоинства философа.
Если этого нет, то, соответственно, и философа нет. Из каких-то многочисленных суждений про этос, который вы можете наблюдать в лице Мацкевича, я говорю, что вот это является самым главным и определяющим для того, как философ должен себя вести. Наверное, я бы даже не стал специально и подробно останавливаться на каких-то других аспектах, и, по большому счету, с этосом покончено.
А.М. – У меня вопрос. Я, может, неправильно понял, что Вы перед этим сказали. Но, в общем, этос относится к коммуникации или к действию?
В.М. – Значит, я сейчас говорил про этос, или про этические принципы, которые являются регулятивами поведения философа и воплощаются в его поведении, или его поведенческих актах (это ещё не деятельность, праксис – он потом, я буду обсуждать, что этим делается). Дальше я возвращаюсь к материалам предшествующих лекций и напоминаю: в том смысле, как я понимаю себе философию, я говорю, что философия является разговаривающей реальностью или организованностью, и в этом смысле в философии ничего другого нет.
А.М. – Я про это и спрашиваю. Этос – это нечто, что декларируется как относящееся к действию и при этом реально имеющее значение только в коммуникации? Что чему предшествует?
В.М. – Там есть такая проблема: я же ещё говорил, что люди собираются с самыми разными целями. И коммуникация среди этих целей является очень редким явлением. Люди редко собираются для коммуникации: они собираются для разговора. Если бы это было не так, то философу вообще очень редко где можно было бы поместиться. Раз люди собираются и разговаривают, то в этом месте точно позволительно быть философу, потому что философ ничего другого не делает, кроме как разговаривает – и поэтому он может туда вклиниваться. Но поскольку люди разговаривают с разными целями, то это порождает, в общем, напряжение между ними и философом, потому что философ моментально придаёт разговору характер коммуникации. То есть он своей самоопределённостью, своим держанием – независимо от того, что и как он говорит, – вынуждает к самоопределению другого, причём не произвольному, а вполне определённому самоопределению, то есть философ несёт в себе воплощенные, потенциально реализуемые спектакли: он навязывает другому позицию практика.
А.М.– Эта позиция в коммуникации должна проявиться или в действии?
В.М. – В разговоре. Причём этот разговор ломается во всех других жанрах и переводится в коммуникацию. Да, в коммуникации. То есть, грубо говоря, если мы берём этос разных социальных представителей (скажем, можно говорить о рыцарском этосе, можно говорить о торгашеском этосе, можно говорить о филистёрском этосе, ещё о каких-то этосах), если мы в данном случае говорим о философском этосе, то это означает, что торгаш, оказываясь в ситуациях, где люди разговаривают, реализует своё представление о чести и достоинстве (грубо говоря, он переводит разговор в торг), если опять же огрубить эту штуку, то, наверное, рыцарь или аристократ должен был бы переводить разговор в бой или во что-нибудь ещё, философ же переводит разговор в коммуникацию. И никак иначе понимать поведение, держание философа нельзя. Но тогда, коммуникация в этом смысле отличается от всех остальных способов ведения разговора: первое – дисциплинированностью, роднящей её с работой, и, – если говорить не о лишь бы какой коммуникации (например, коммуникация ведётся также в суде, в дипломатических переговорах, во многих других вещах), – особенностью коммуникации философа является наличие этой самой доски, обеспечивающей радикальное сомнение и отрицающей ценность знания как такового.
Т.В. – Владимир Владимирович, можно спросить?
В.М. – Ну конечно.
Т.В. – А философские лекции, которые вотздесь сейчас происходят: здесь Вы философ и реализуете весь этот этос, о котором проговорили?
В.М. – Да.
Т.В. – То есть здесь Вы воспринимаете нас как практиков и взываете к нашему самоопределению. И разговариваете.
В.М. – Понимаешь, поскольку философский разговор – идеализированная штука, в которой можно восстановить позицию «Я» и позицию «Иного», или «Другого», визави философа, то лекции есть, скажем так, «собирательная» штука, где может быть множественность «Иного», и эта множественность «Иного» сводится к двум типам противостоящих мне «Я», которые меня слушают.
Т.В. – Слушают или разговаривают?
В.М. – Которые слушают мое сообщение.
А.М. – Значит, разговаривают?
В.М. – А значит, разговаривают.
А.М. – То есть коммуницируют.
В.М. – А значит, разговаривают, потому что разговаривание в данном случае организовано топически. Раз – таким образом (рис. 1.2 – верхняя часть), а два – разговаривание топически рисуется нами в нашей графике таким образом (рис. 1.2 – нижняя часть).
Рис. 1.2
Даже если мы имеем не «тезис-антитезис», или «вопрос-ответ», или «сказанное-возражённое,» а мы берём одну стрелочку – посыл от меня к другому – то и он состоит, как минимум, из двух мест: то, что сказано, и то, что воспринято (хотя это выглядит как одно). И только в идеальном плане философа оно разбивается на две части. Поэтому я с вами разговариваю, несмотря на то, что вы можете молчать как рыба об лёд на протяжении пятнадцати лекций. Это есть разговор, потому что даже если все пятнадцать лекций есть только один акт сообщения, то на него, так или иначе, существует предполагаемый ответ.
А.М. – Предполагается существующий ответ или существует предполагаемый ответ?
В.М. – Существует предполагаемый ответ.
А.М. – То есть существует возможность ответа?
В.М. – Предполагаемый ответ.
А.М. – Возможный. И это не «забота». Реализация – это возможность или забота философа?
В.М. – Возможность означает: ответ может быть, а может и не быть. Да?
А.М. – Да.
В.М. – Если это такая возможность, то тогда это делает философский разговор нефилософским, или «не-разговором». А когда я говорю, что существует предполагаемый ответ, то я могу не дождаться его до окончания самой лекции, чаепития или пивопития после неё, и даже я могу не дождаться его до окончания всего цикла.
А.М. – Или до конца жизни.
В.М. – Может быть, и до конца жизни, хотя я тут более оптимистично настроен. Я говорю: «Я его дождусь в виде действия». Но при этом я не тороплю и не провоцирую ответ именно потому, что я пытаюсь ответить на вопрос Водалажской, потому что для меня в этой аудитории существуют ровно два визави, фактически, – там за первым маячит некий второй (рис. 2).
Рис. 2
И один из них практик, а другой – «клон» философа.
А.М. – Подождите, Вы вообще записываете то, что есть, или то, что должно быть?
В.М. – Смотри. Ты опоздал. Я до этого в длинном введении к этой лекции говорил, что в предшествующих лекциях я описывал то, что, с моей точки зрения, должно было быть раньше и должно быть всегда. Эта лекция является переходной, при которой я меняю модальность говорения. Я сейчас говорю: «Это есть». Но это есть только по отношению к одной-единственной индивидуальности.
А.М. – Нет, я про коммуникацию. Я сейчас хочу знать: вот Вы сейчас построили «объяснялку» для Водолажской – как проверить на истинность то, что Вы сказали.
В.М. – Да элементарно.
А.М. – Я лично вопспринимал это как отмазку. Нагородили тут, нет обратной связи классической…
В.М. – Ничего подобного.
А.М. – А как тогда подтвердить?
В.М. – Да очень просто. Вот прихожу я восемь лет назад на семинар к Фурсу, где обсуждается активная философия.
Т.В. – Я ж про этот семинар спрашиваю, а не про тот.
В.М. – Я же сейчас, оторвавшись от ответа тебе, отвечаю Мирошниченко, который говорит, что я тебе не отвечаю, а отмазываюсь от твоего вопроса. Я говорю: «Такого быть не может». Если философ ведет себя как философ, если он реализует философский этос, то, фактически, он не оставляет без ответа, или без существования предполагаемого ответа ни одного из тех, с кем он вступает в разговор. Все отвечают, даже молча.
А.М. – Тебя удовлетворил такой ответ?
В.М. – Я не всегда требую или провоцирую «громкость» ответа именно потому, что я не пытаюсь сейчас в этих лекциях, которые есть специфическая разновидность философского разговора, который ведет философ Владимир Мацкевич – специфическая в том смысле, что здесь я нахожусь не просто на базаре, на агоре, как Сократ, а я нахожусь в особой ситуации, где я говорю как бы с практиком, и одновременно оставляю возможность этому практику стать своим «клоном», то есть философом, и сменить меня в реализации чести и достоинства философа, которое будет нестись дальше.
А.М. – Как модель, это (то, что Вы сейчас рассказали), может быть, очень даже красиво.
В.М. – Послушай, мне плевать: «как модель – не как модель». Я сейчас рассказываю про то, как я себя веду. И понимать это надо только с точностью до того, что есть в Беларуси единственный такой урод – Мацкевич, который ведёт себя таким образом, как он говорит.
А.М. – Нет, это хорошо.
В.М. – Ничего хорошего. Это – так: ни хорошо, ни плохо.
А.М. – Да, допустим это всё так. Для меня важным является то, может ли поменяться Мацкевич в зависимости от какой-то конкретной коммуникативной ситуации. Вся машина, которую Вы сейчас нарисовали, может измениться в зависимости от конкретного понимания – непонимания, желания – нежелания вступать в коммуникацию какого-нибудь оппонента?
В.М. – Если бы такая возможность отрицалась, то тогда:
– Я бы всё наврал про радикальное сомнение;
– Я бы всё наврал про философскую коммуникацию.
Философ не просто меняется, он собирает на себе, на своей индивидуальности, все получаемые ответы. В этом смысле: «Что такое философ?» – если представить себе философа как физическое тело, то это тело всё в синяках, полученных от ответов со стороны тех, с кем он разговаривает. J
С.М. – Собирание на себе не означает изменение себя.
В.М. – Изменение.
С.М. – Подожди…
Т.В. – Был беленьким, стал синеньким. J
С.М. – Дальше идёт вопрос Андрея: ты имеешь в виду изменение в чем? В принципах этических… В чём?
А.М. – На самом деле мой вопрос был гораздо уже, но Мацкевич ответил очень красиво. Я имел в виду изменение механизма коммуникации.
В.М. – О, вот это нет.
А.М. – Как мне показалось здесь в коммуникации проблемы. Танин вопрос, как мне показалось (я, может быть не прав, повторяю), предполагает какую-то специфическую коммуникацию. Предположим, коммуникация не учитывает тех интенций, которые, допустим, есть у меня (а я бы хотел, чтобы они учитывались). Я про это спрашиваю. Я спрашиваю: «Готовы ли мы изменить саму коммуникацию: не себя изменить, а себя в плане коммуникации?».
В.М. – Понимаешь, по аналогии с рыцарским этосом, я вместо этого вопроса спросил бы следующим образом: « Готов ли шевалье, пребывая постоянно в готовности к дуэли, к тому, что на одной из дуэлей его зарежут?» – Да. Но тогда спрашивается: « Кто будет рыцарем после того, как зарезали этого самого пресловутого рыцаря?» – Другой рыцарь, который его зарезал. И здесь я отвечаю тебе таким же образом: изменяться в философском разговоре, когда есть философ и визави, могут ровно две вещи, а именно: идеальный план, на котором появляется схема – и стирается, появляется понятие – и удаляется, и чистота доски есть элемент заботы; и вторая вещь, которая изменяется – это индивидуальность именно философа. Но философ, который заставляет вести такой разговор, не меняется, и разговор не меняется. А если он изменится, то тогда философ должен уступить место и сказать: «Если изменили ход разговора, значит философ тут не я, а другой. Меня убили, я сдаюсь».
А.Л. – А визави, который с ним разговаривает, разве не меняется во время разговора?
В.М. – А это дело того визави. Смотри, какая штука: когда я говорю, отвечая на вопрос Водолажской по поводу этих лекций (по поводу других ситуаций, я буду говорить в топосе, а здесь сейчас, имеется в виду этот топ, это место), я говорю, что, в принципе, требование на изменение визави присутствует в этом разговоре, но визави остаётся свободным, у него есть альтернатива: либо не меняться – и тогда он остаётся собой, у него происходит досамоопределение, закостенение самоопределения какого-то практика – и тогда остаётся изменение только на доске, и в том, что он списывает с доски, присваивает себе из идеального плана (но это вещи отделённые); либо, если он претендует на то, чтобы быть клоном и становится самому философом, он должен сделать собственную индивидуальность предметом собственной заботы – и вот тогда он будет меняться. Разобрались с этим?
А.М. – Подозрительно про неизменность разговора – коммуникативный трансцендентализм какой-то. Способы работы с доской не меняются, я так понимаю?
В.М. – Нет, способы работы с доской меняются.
А.М. – Ну, ладно.
В.М. – Тогда ещё раз. В чём состоит этос философа? – В том типе разговора, который он навязывает всему и всем, с кем вступает в разговор.
В.А. – Можна ўдакладнiць: то есць ты сцвярджаеш, что филосаф заўсёды филосаф? Прабач, і ў ложку таксама філосаф?
В.М. – Нет, такого я не говорю.
В.А. – Можа з Андрэем у пэўным сэнсе пытаннi супадае… Пытанне было: ты, ці філосаф, змяняешь, то есць не тое, што змяняешь… Умоўна кажучы: вось ты ў краме, – Нiцше хваліўся Лукасу, што калi прыходзiць на рынак, любая бабулька яму выбярэ самую сакавiтую гранку вiнаграду и г.д. Наўрад ці Нiцше пазіцыянаваў сабе на рынку як філосаф. Пытанне, удакладненне: фiлосаф заўсёды фiлосаф, цi у пэўных сiтуацыях ён перастае быць фiлосафам?
В.М. – Услышав такую тему, любой может спросить: почему только это, почему не добавить сюда поэзис, патос, эрос, в конце концов? J Философ, в некотором отношении, человек, и ничего человеческое ему не чуждо. И, в общем, в постели я предпочитаю «доску» класть под кровать. Что касается Ницше…
Д.Г. – Вы любите спать на твердом? J
В.А. – Можа, я чаго не ў’ехау, катыгарычна сфармуляваў… Пра гэта хацеў удакладнiць.
В.М. – Это определяется немного другим, не философским этосом. Я попробую это обсудить, но немного позже, наверное. Я не готов просто так отвечать тебе на этот вопрос. Понятно, что философ был бы последним дураком, если бы везде и всюду разговаривал только таким образом. Это как люди, или персонажи, которых герой киноленты «Понедельник начинается в субботу» видел, когда начал путешествовать на машине времени в будущее. Смысл там в чём? – Путешествовать можно только в будущее, но в будущее воображаемое. А чем формируется воображаемое будущее? – Большим набором текстов, которые породили фантасты, утописты, и т.д. про будущее. И вот чем дальше он забирается в будущее, тем в меньшей степени люди, населяющие будущее, похожи на живых людей: они ходят либо совсем голыми, либо в философских тогах, и ведут между собой разговоры, примерно, как в нравоучительно-философских текстах. Вот такой дибилизм. Поэтому я не знаю, что происходит с философом, когда он приходит на базар покупать себе гроздь винограда. Я думаю, что Ницше со своей болезнью, скорее всего что-то напутал. Мне в этом смысле больше нравится другой из этих «мэтров подозрения» – Фрейд, который однажды читал лекцию, в которой лейтмотивом проходила фаллическая тематика и фаллические символы. Он рассказывал про то, что любой продолговатый предмет в этом смысле является фаллическим символом. Потом перерыв – он выходит на перерыв и закуривает сигару. Проницательный слушатель подходит к нему и говорит: «Товарищ Фрейд, а что это Вы в рот себе засунули и как это соотносится с фаллическими символами?» J Тот говорит: «Отстань, дурак. Иногда я курю сигару просто как сигару». J Так же и здесь. Есть разговор, который я затеял – я его начал, я его веду. А потом я объявил перерыв, беру себе сигару и курю ее. Но тут я согласен с Мирошниченко: это отмазка. Потому что у этого вопроса есть ещё другие развороты, которые я хочу затронуть в следующем топе, который звучит буквально следующим образом: «А куда с таким этосом философ должен появляться и ходить?»
А.Е. – Куда же ты с таким этосом… J
В.М. – С таким-то этосом, да в калашный ряд. J
В этом смысле, наша жизнь дискретна, прерывна. Если, скажем, я всю свою жизнь меряю лекциями, читаю лекцию за лекцией, а всё, что между лекциями я вообще не принимаю в расчет, то я должен, по крайней мере, перемещаться с лекции на лекцию или делать перерывы. В этом смысле, одна лекция, переходящая в другую без перерыва – немыслима. Надо делать какие-то перерывы. Точно также разрывными или прерывными бывают ситуации. Тогда резонен вопрос: «А где должен быть или бывать философ, держа себя и поступая так, как оговорено или задано в его этосе?» Правила выбора и предпочтения места, ситуации, куда влечёт философа его призвание, есть тема философского топоса. Грубо говоря, я уже сказал, что топос, или топология философа, перемещение его по этим местам очень сильно определяется структурой идеального плана, который задан для него им самим или той философской школой, тем институтом философии, к которому он себя относит, в котором он самоопределяется. И в зависимости от того, каково содержание, отдаётся предпочтение тем или иным местам.
В самом общем виде нужно было бы сказать, что философ должен быть в гуще жизни. Причём, обратите внимание, – не практики, а в гуще жизни. Если вернуться к тем предшествующим лекциям, о которых я говорил, и к требованиям философского этоса, связанным с радикальным сомнением, выходом через это за границу знания и т.д., то философ должен забыть про ранжирование разных качеств жизни, разных укладов, и оценивать жизнь только по её интенсивности. Поэтому он всякий раз суётся туда, где жизнь кипит и клокочет. Но другое дело – какая именно жизнь, какие аспекты жизни он для себя выбирает. И если мы, например, берём Фуко, то он, наверное, тусовался в гуще «голубых», о которых вышеупомянутый Мирошниченко говорил, потому что его интересовала эта сторона жизни. В этом смысле, если, например, эрос, сексуальная жизнь и т.д. подвергается сомнению этим философом, и он выносит это в идеальный план и начинает с этим работать, он просто обязан выбирать для себя такие места, где жизнь в этом плане клокочет. Сексуальная жизнь точно не клокочет в спальне: она клокочет там, где нарушаются сексуальные нормы и т.д. Поэтому его призвание, грубо говоря, влечёт его туда, где это вообще можно усомневать и где с этим можно экспериментировать. Но другие философы туда и ноги не кажут. А куда они кажут? – Маркузе, наверное, должен был бывать на площадях в Латинском квартале, в Сорбонне, и т.д.
В этом смысле, мы эту жизнь разворачиваем по отношению к себе таким боком, который мы способны идеализировать, выносить в идеальный план, делать его содержанием, и тогда философа влечёт в такую гущу жизни, глубину жизни, где эти вещи кипят. Соответственно, если философ устремлён в эстетику, то он должен крутиться среди художников, писателей и т.д. Если его влекут теологические, этические и т.д. вопросы, он должен быть там, где происходят важнейшие события, связанные с той стороной жизни, по отношению к которой он себя позиционирует, разворачивает свою философию и т.д. Если философ сторонится этих вещей – он дерьмо, а не философ. То есть, грубо говоря, если я занимаюсь политической философией, и не хожу на митинги, не участвую в партийных собраниях, а сижу в ЕГУ и несу всякую фигню про это, то как бы красива ни была эта фигня в поэтическом плане, – это фигня.
А.М. – Нет, ну ЕГУ – это же периферия политической жизни.
В.М. – Я ни разу не видел Шпарагу на партийных собраниях.
А.М. – Ну это Вы зря.
С.М. – Я видела.
В.А. – Не, на плошчы яна была. Плошча яе захапiла.
В.М. – Тогда давайте разберемся. Является ли площадь – Майдан– того года (три года назад, сегодня как раз 19 марта) гущей жизни, про которую…
Т.В. – Наверное, определение, где гуща, а где нет – это тоже надо разбираться…
В.А. – Напэўна, ты лепш давай далей, а не с Шпарагай разбірацца.
В.М. – Нет, я сейчас говорю про топос философа. Я был бы последним лгуном, если бы я не был тогда на площади. Но теперь: идеальный план и индивидуальность дают мне оценку интенсивности жизни там и там. При этом я побывал на площади в Киеве – и опять же, я был бы последним лгуном, если бы я заявлял себя как философа в политической сфере, не побывав на Майдане в Киеве. До того, как он случился здесь и «захватило». С другой стороны, что я делаю на Майдане – что в Киеве, что в Минске?
Среди категорий, которые я употреблял в тезисах к этой лекции, была категория патоса, пафоса. Грош цена была бы мне как философу, если бы меня Майдан захватил в плане пафоса; если бы я был поэтом – да, если бы я был художником и т.д. – да. Но если я философ, я прихожу на Майдан что делать? – Разговаривать. Если вы посмотрите коротенький эпизод в фильме Хащеватского, где моя рожа светится, – она светится именно как рожа разговаривающего.
А.М. – Это второй шаг, кто там что делает. Вы давайте про то, что принимает-не принимает участия в какой-то якобы гуще жизни…
В.М. – Стоп, разделяем. Про то, как он себя ведет, я рассказал в этосе философа. Про то, где он себя ведёт таким образом, я рассказываю в топосе философа.
А.М. – Тут надо разбираться.
В.М. – С кем и чем ты собираешься разбираться? Со мной? – Пойдём выйдем. J
А.М. – При чем тут Вы? С фактурой.
В.М. – Тогда про что мы сегодня разговариваем? – Мы сегодня разговариваем про этос и пафос философа. Кто сегодня философ? – Правильно. J То есть я, фактически, через этос, топос, логос, эрос, если хотите, праксис, репрезентирую индивидуальность философа с тем, чтобы, как я говорил во введении, обрести право говорить то, что я говорю, и, – задним числом – говорил в тех 15-ти лекциях, и буду говорить в ещё нескольких лекциях, которые будут в этом сезоне, а, может быть, ещё в какой-нибудь книжечке, которую я выпущу по материалам этих лекций, а может быть, ещё в каких-нибудь последующих вещах. Сегодняшнее мое говорение можно обсуждать, разбирать, но я говорю не для этого. Я говорю сейчас именно для того, чтобы сменить модальность говорения: от говорения про философию в третьем лице я должен перейти к философскому говорению в первом лице в этом цикле лекций. И переход этот делается через репрезентацию этоса (в первую очередь), топоса, логоса и праксиса на этой лекции. Теперь мы пока находимся в рамках топоса, и про топос я ещё не всё сказал.
Я сказал, что место философа всякий раз в гуще жизни, но в гуще жизни, которая «повёрнута» к философу в силу позиционирования самого философа. Поэтому эта гуща всякий раз разная. В этом смысле красиво было в фильме про Чапаева, когда он обсуждает с Петькой тактику. Он говорит: «А вот так сложилась ситуация. Где должен быть командир? – Правильно, командир должен быть впереди на лихом коне. – Раз, диспозиция поменялась. Где теперь должен быть командир?» Петька говорит: «Впереди на коне». – «Нет, Петька. В этом месте командир должен быть сзади, на высоте». И всякий раз при смене диспозиций меняется структура жизни, и всякий раз место философа в её гуще, но где эта гуща – определяется по-разному.
А.М. – Главное – на лихом коне.
В.М. – Иногда на лихом коне, иногда на стремянке, иногда где-то ещё. В этом плане есть ещё один аспект, он связан с тем, что философ по отношению к топосу не только перемещающаяся по топам единица, а он ещё творит его определённым образом, меняет его. В этом смысле институт философии – это тот топ, то место, которое творится самим философом. И теперь уже это место становится определённого рода концентрацией интенсивности жизни.
И уже в это место люди могут либо приходить, либо не приходить. Институт философии, в частности репрезентируемый нашим методологическим семинаром, – это обозначенное место, «Урга, территория любви». Помните это фильм? Единственный хороший фильм Михалкова с фиг знает каких времен. Голая степь в Монголии. Как людям заниматься сексом?
А.М. – Флажок ставить.
В.М. – Они придумали очень просто: даже не флажок, а киёк.
А.М. – Шест.
В.М. – Да, шест ставят. Этот шест виден издалека и, соответственно, деликатные монголы не суются в это место, потому что понятно: в этом месте занимаются «этим». Так вот, философ ставит такой «шест», где говорится: «Здесь занимаются вот этим». Чем? Чем занимаются на методологическом семинаре? – Это особого рода философские разговоры, где место участника не определено в плане этого выбора. Сюда могут приходить, грубо говоря, политики, могут приходить практики, а могут приходить те, которые готовы вылезти из шкуры практика (если она у них есть) и занять место в очереди на то, чтобы называться философом, или клонироваться в философии. Но, что касается практика, – то смотри пункт первый. Что делает философ, начиная свой разговор? – Он видит в визави практика, точно так же, как хороший родитель и воспитатель в ребёнке, начиная с двухминутного возраста от рождения, уже начинает видеть взрослого, и вступать в коммуникацию с ним, как с взрослым. Как бы мы ни относились к педагогу Макаренко, но он прав: когда у него спросили: «Господин Макаренко, когда можно начинать воспитание ребенка?», он спрашивает: «А сколько вашему ребенку?» – «Ну, уже полгодика» – «Вот вы уже на полгодика и опоздали». Так же и с практиком. Чтобы стать практиком, нужно проделать с собой, наверное, много всего, нужно им ещё стать. Но люди становятся практиками посредством разговоров с философами. Почему? Потому что именно философ видит в «другом» практика. А другой поступает в соответствии с тем, как это описывал Маркс, апеллируя к архетипам, которые сам же и отрицал. Он говорит: человек Пётр только тогда становится личностью, когда видит себя как личность в глазах человека Павла. Так же и в коммуникации с философом: без разговора с философом ни один практик практиком не становится. Пока его философ не увидит практиком, и практик не ответит так, чтобы философ это не усомнил, не подвергнул радикальному сомнению, практиком стать нельзя.
Но это отдельная статья. А другая статья — для человека, с которым разговаривают как с практиком, оставляется возможность стать самому философом.
Т.В. – Для философа тоже только тогда появляется эта возможность: пока он в глазах практика не будет философом, он философом не является?
В.М. – Нет. Потому что философская позиция в этом месте первая.
А.М. – Плевали мы на этих… плебс.
В.М. – Нет, это просто…
А.М. – Обыватели.
В.М. – Философ в этом месте начинает разговор. Он просто меняет жанр, ломает все рамки других разговоров, вводя свои. И поэтому со стороны практика сделать кого-то философом невозможно. И поэтому институт философии или методологический семинар – это есть такая преобразовательная деятельность в области топоса. Мы меняем пространства, создаём особого рода места. И важно здесь сохранить принцип топоса и не замыкаться в этом месте. Потому что иногда усилиями, скажем, поколений философов, преемственности какой-то и т.д. места для комфортного пребывания созданы, но как только философы – ну, или те, кто мог бы быть философом – замыкаются в этих местах — всё, философия исчезает. Вести философский разговор в том месте, где собрались одни философы, невозможно. И вообще разговор двух философов есть очень и очень искусственная и частная ситуация, которых желательно в воплощённом материальном смысле избегать, или делать их крайне редкими. Ну, например, совершать паломничество к философам. Вот сидит там у себя в Кенигсберге Кант. Где-нибудь в другом месте завёлся другой философ. И вот, раз в жизни надо совершить хадж друг к другу – поговорили и разбежались.
А.М. – Как Витгенштейн с Поппером, помните, разговаривали?
В.М. – Точно. А когда два философа встречаются чаще, чем во время хаджа, то дело доходит до употребления кочерги.
А.М. – Они впервые тогда встретились.
В.М. – Не знаю, впервые или не впервые. На этом забавном эпизоде с кочергой я бы закончил про топос.
В.А. – Можна пытанне? Як бы тут Андрей узгадаў Вітгенштайна… Мяне трошкі трывожыць, ці не трывожыць… лагічная сацыялізація тваёй схемкі. Яна пабудавана, уласна кажучы, на трох рэчах: філосаф, ідэальны план і практык. А практыка – гэта ўжо сацаяльная, да? З кім размаўляў Вітгенштайн, будуючы свае філасофскія сістэмы, сістэма першая – малады Вітгенштайн у “Логіка-філасофскім трактаце”, дзе ён даводзіў, што словы называюць тое, што ёсць, позні Вітгенштайн, які даводзіў зусім наадварот: словы анічога не называюць, яны гуляюць самі у свае гульні, як котка. Дык а з якім практыкам размаўляў Вітгенштайн усё жыццё?
В.М. – Я думаю, что и у него, и у Поппера, и ещё у целой кучи людей, травмированных распадом Австро-Венгерской империи, был один практик: это тот, кто развалил Австро-Венгерскую империю. И вот они с ним разговаривали. И видели этого практика в лице каждого, с кем они пытались разговаривать. Поэтому философский разговор – он может принимать разные формы, в том числе когда мы ведём разговор через книги. И в этом смысле любому философу, вообще любому автору обидно, когда его книги не читают. А философу в этом мест обидно специфически, в том смысле, что когда его даже читают, но обсуждают в терминах «понравилось – не понравилось», а не в коммуникации, он считает, что его не читают, и не относятся к этому. Поэтому я и говорю, что философский разговор чаще ведётся вот таким образом: философ сказал, а потом год ждёт ответа, два ждёт ответа, три ждёт ответа. Ну и так, глядишь, ответит ему кто-нибудь, в некрологе. J
Поэтому когда мы берём философов – особенно книжных философов, философов, которые… Есть такие философы, которые одну книгу написали. Иногда люди вообще специально пишут книгу, выпускают и помирают. Чтобы «не спакушацца», не соблазняться ответом.
Но я говорил, что эта схема редуцированная. Хотя наверное, как ты сказал, социологизм… Как упрёк это может быть, хотя, понимая такой упрек, в общем, я даже понимаю, что с этим надо специально разбираться. Правда, с этим я сейчас разбираюсь не в том, что говорю на лекциях, а в обсуждении социальной теории, и кое-что я всё-таки надеюсь сказать до конца этого цикла, если мне вообще это всё не «обрыднет». С этим разобрались, да?
Следующий вопрос, который витает в воздухе: а что же такого приносит с собой философ в те ситуации и места, где он оказывается и по которым обретается? Слова, которые он говорит о философии, разговаривая и размышляя, схемы истины, в которых он сомневается – это всё есть тот самый философский логос, который мы сообщаем миру.
Итак, в этосе я обсуждал наличие доски под мышкой у философа, куда бы он ни шёл, и этим определяется его поведение: он вступает в разговор, навязывает разговор, и навязав его, переводит на доску, в идеальный план, и начинает на нём «крэмзаць», стирать и т.д. Но даже работая с доской, он, в общем, разговаривает. И разговаривая, он несёт на себе, ну, или приносит набор понятий, категорий, слов, каких-то средств, с помощью которых он работает на доске.
Соответственно, логос философа – это та формальная часть учения, которая может восстанавливаться, ну например, как метод в нашем случае (когда я обсуждаю это по отношению к себе, я говорю, что это метод). И метод в данном случае есть то самое слово, с которого всё «начало быть». Когда философ, вступая в коммуникацию, это слово произносит, то он его сразу произносит со всем набором атрибутов-формальностей, которые несёт на себе эта философия. Поэтому логос – он и задаёт, собственно, характер философствования или те формы, в которые может быть обличено содержание, но будучи облечённым в эти формы, содержание становится приматом, и дальше относительно этого примата философ и меняет формы, схемы, понятия, категории и т.д. Грубо говоря, если я дальше в последующем буду касаться вот этой части своей философии, то я в первую очередь буду обсуждать именно формы, формы схватывания содержания, желательно элиминируя содержание как таковое.
В этом смысле, наверное, такой логос философа почти не проявляется в актах живой коммуникации, которую ведёт философ. Это в меньшей степени относится к лекциям, но если я прихожу на партийное собрание, на менеджерское совещание, где я ещё бываю…
А.М. – На конференциях.
В.М. – …ну да, на какой-нибудь конференции – учёной или не очень учёной – прихожу в институт социологии, или ещё куда-нибудь… В этом смысле я, в общем, прихожу со своим этосом и в меньшей степени я могу развернуть там логос. Но без логоса я не могу туда появляться. Я туда хожу, а дальше всё зависит от сопротивления и рефлексии участников философского разговора. Как правило, моя биография, мой личный опыт философских разговоров в последние десять-пятнадцать лет подсказывают, что в редких-редких случаях я могу добираться в философских разговорах до логоса и рефлексии всех этих оснований. Но в текстах, в более опосредованной коммуникации я таки обязан это делать и очень часто я начинаю с этих вещей. Наиболее ярким таким прецедентом может быть первая лекция (и не только первая), опубликованная в «Полемических этюдах». Я, собственно, считаю это в своей философской практике, в своей философской биографии таким очень важным моментом, который мне удалось сделать в молодости. И я думаю, что там, как Олита Августовска написала в предисловии к этой книге, – было произведено расколдовывание педагогики. И проведено это расколдовывание педагогики одним-единственным логическим приемом – элиминированием содержания. Как только мне удалось это сделать, в общем, всё стало на свои места, в некотором смысле выкристаллизовалась определенная система, и я до сих пор могу этой системой, этим логосом гордиться.
Дальше эта форма захватила содержание. Достаточно большой объём содержания. Но относительно этого содержания у меня нет никакого пиетета, никакой гордости. Наверное, если б я сейчас рассказывал в той форме, я бы вообще ориентировался на другое содержание. И наверняка, скажем, квалифицированный историк педагогики, или просто историк, внёс бы туда гораздо более основательное содержание и прочее. Точно так же мы, например, поступали в концепции гражданского образования и вообще в концепции гражданства. На что, между прочим, была получена реакция историка, скажем, Киштымова, который, не принимая логоса, вообще не обращая внимания на логос и форму, начал сыпать какими-то там содержательными репликами, которые, в общем, об этот логос разбиваются, или отскакивают от него как горох от стенки.
И в этом плане каждая философия, включая ту, о которой я здесь говорю и которую я здесь презентирую, – она имеет свой «силовой экран» в виде этого самого логоса, который даёт ей возможность существовать независимо от самого философа. И что является причиной интереса к философским текстам, написанным философами совсем в другой ситуации, не имеющей никакого отношения к ситуации, в которой живут их читатели, и даже тогда, когда читатели абсолютно не согласны с содержательными построениями этих философов? То есть мы можем читать Аристотеля и Платона, более того, собачинье и лягание этого жеребца Аристотеля в адрес самого Платона, и нас в наименьшей степени интересует по отношению к тому логосу, который мы можем вычитать вот в этом во всём. И точно так же, если мы читаем другие тексты, несущие на себе философское содержание. После того как волной, прибоем, цунами истории смыта конкретная ситуация, в которой рождалась в философском разговоре та или иная философия, философия с именем собственным – после того как это всё смыто, от философии остаётся вот этот самый логос. И он не зависит от ситуации, от конкретных условий. Помните как я в прошлой лекции говорил про МУС, материальные условия существования, прымус. Так вот, логос – не прымусовый, говоря таким метафорическим языком.
В последующих лекциях мне придётся обозначить и вытащить несколько – ну, или не несколько, желательно, конечно, все – элементов логоса моей философии. К ним относятся такие вещи, которые, скажем так, не являются главными, основными, стержневыми для других философий. Ну, скажем, если я заимствую из средневековой философии категорию интенции, то затем я время от времени употребляю это слово по отношению к каким-то ошмёткам знаний, дошедших до меня из области феноменологии, или любых других философских подходов, интересующихся сознанием, но тем не менее я употребляю этот остов категории «интенция» скорее в схоластически-средневековом смысле, чем в смысле феноменологическом. Точно так же как, скажем, когда я начинаю рассматривать технику в статье «Техника» – а она в общем во многом репрезентирует уже содержательную часть моей философии – то там тоже интенция употребляется скорее как заимствованная из средневековья, но наполненная уже иным содержанием. Первая и вторая интенция, которые употребляются и в этой статье, и в книжке «Беларусь: вопреки очевидности» или там ещё где-то – они не могут пониматься и трактоваться как прямое заимствование из каких-то других вещей, они должны наполняться смыслом и содержанием ровно той философии, которую я делаю.
Тут я сказал длинно и почти красиво, поэтому на этом я бы и оборвал разговор про логос. Есть по этому поводу реплики и замечания, потому что мне осталось сказать совсем мало?
А.М. – Вот непонятно. Трансцендентализм какой-то.
В.М. – Серьёзно?
А.М. – Да.
В.М. – Я не знал.
А.М. – Проводится разговор один и тот же. Это вот онтологическое полагание?
В.М. – Не знаю.
А.М. – Или регулятивное?
В.М. – Я не слышу тут трансцендентализма.
А.М. – Поэтому логос у Вас остаётся неизменным.
В.М. – Ну остаётся. И что?
А.М. – Трансцендентализм.
В.М. – Думаю, что нет. Вообще, я говорю абсолютно посюсторонние вещи. Я не слышу в том, что я говорю, трансцендентализма. Это ты слышишь, и я удивляюсь, на тебя глядучи. Когда я говорю, что волны времени и человеческого интереса разбиваются о силовой экран логоса, я говорю только о том, что, скажем, читать древних химиков, биологов или врачей могут специфические специалисты, филологи или историки этой науки, и могут к ним относиться. Читать философа, независимо от выдержки, можно как философа и в девятнадцатом веке, и в двадцатом и в двадцать первом и через…
А.М. – А почему?
В.М. – Потому что в логосе есть этот метакаркас, и сам философ должен рефлектировать отделение содержания от этих каркасных конструкций. Если он – а это часто не делают сами авторы, сами философы, для них порой вот эти штуки как бы слеплены… Почему в первых лекциях я говорил, что я рассказываю о той философии, которая мыслит, но мышление не является субстанцией философии. В этом смысле философия – говорящая и сомневающаяся штука, а чтобы она ещё стала мыслящей, нужно чтобы философы умели вычленять эту часть логоса и рефлектировать её. И только эта штука имеет ценность за пределами конкретной ситуации, где философ вступает в разговор с практиком.
Я всё сказал.
А логос – это то, что привносит философ, независимо от того, с каким практиком он ведёт разговор. Если этого нет, то, в общем, философ – даже с доской под мышкой, даже оказавшись в гуще жизни – в общем ни на что не способен. Вот почему, даже вот так коротко и мало про это сказав, я, в общем, считал необходимым про это поговорить.
Про это реплики закончились, потому что если они будут – то уже в конце, потому что я уже закругляюсь.
А закругляюсь я переходом к последней категории, употреблённой в названии, а именно – к праксису. И в этом смысле, конечно же, мало себя держать и вести каким-то образом, мало быть разборчивым в местах, куда ты попадаешь, и ходить только туда, куда должен ходить философ, неся своё призвание, и мало, в общем-то, иметь при себе тот остов, тот каркас и скелет, который представляет собой собственно логос, и то, что остаётся от философии, когда разговор закруглился или закончился (как Высоцкий пел в спектакле про Алису в Стране Чудес: что остаётся от сказки потом, после того, как её рассказали?). Так вот философия – это разговаривающая реальность. А что остаётся от философии потом, после того, как разговор закончился? А остаётся от философии, когда разговор закончился: а) то, что мы говорили, б) что-то, что мы можем снять в виде результатов идеального плана. Изменённая индивидуальность философа, самоопределившийся практик, ну и собственно, логос, который может рассматриваться как то, что снято с предшествующей работы на доске.
Есть ещё одна вещь, которая остаётся, которую можно обсуждать в философском праксисе. Когда философ освоил этос, ведёт себя по-философски безукоризненно, когда он оказывается в нужных местах и в гуще событий, когда он оснастил себя хорошим силовым экраном, полем, остовом, каркасом и т.д., – что он при этом делает? Лёнику тут на день рождения подарили книжку Эрика Берна «Игры, в которые играют люди, и люди, в которые играют в игры». А у Эрика Берна был последователь, не помню, как его имя было, а фамилия у него была Харрис. Так вот этот Харрис написал книжку, которая называется так: «Что мы говорим, когда говорим «Здравствуйте»?». В своё время мне сама эта формулировка понравилась, запала. Что мы говорим, когда мы говорим «это»? А потом, уже оказавшись в лапах методологов и игротехников, я у них обнаружил другого рода выражение: когда кто-то выходит к доске, говорит-говорит, а слушающий его спрашивает: «А что Вы делаете?» – «Я говорю вот это» – «Нет, Вы не рассказывайте, чего Вы говорите, это все слышат. А что Вы этим делаете?»
Так вот после того, как я рассказал про этос, топос и логос, я спрашиваю: ну и что при этом философ делает? И это нужно обсуждать в категории праксиса философа. У меня нет однозначного ответа, применимого к философии всех времен и народов. Помните, если я могу сказать что-то про то, что делал Анаксагор во времена золотого века Афин, то это я говорю про себя, которого ставлю на место Анаксагора, думая, что я бы делал вот это. И я про любого философа, который жил в ситуации, мне не известной, могу сказать ровно это. То есть я в своем повествовании, в своем поэзисе делаю того философа, про которого рассуждаю, своим лирическим героем, и описываю себя в этом философе. Поэтому, обсуждая праксис с полной уверенностью я могу сказать только о себе, что я делаю. То , что я делаю, никак не связано с тем, что делают другие философы, если они в Беларуси есть, конечно, или в ближайших окрестностях (в чём я сильно сомневаюсь). Но про себя я могу это говорить, и только про себя. Но, говоря это про себя, я могу говорить это в плане праксиса, не навязывая этого никак в плане этоса. Это не значит, что кто-то должен делать то же самое, что делаю я. Это раз. А во-вторых, собственно, я всегда говорю, что я делаю.
Тем самым, конечно, я попадаю ещё в более трудную ситуацию, чем ту, которую я описывал, говоря про этос. Мало того, что я вызываю раздражение, появляясь со своим этосом в ситуации, где люди развлекаются, тусуются, работают, молятся или ещё что-нибудь делают. Здесь я вообще попадаю в ситуацию, потому что в плане праксиса я очень хорошо отдаю себе отчет, что всё, что делается, делается через коллективно распределённого субъекта. А значит, я вступаю в отношения подельника с кем-то. В данном случае я всегда говорю, но говорю как философ с практиком, а меня всегда записывают в какие-то другие практики-подельники. И это проблема.
И в этом смысле я даже не собираюсь сегодня повторять, чего я делаю. Это всё у меня написано. И про «Думать Беларусь», и т.д. Но, тем не менее, есть ещё одна сторона праксиса – это то, что связано с логосом. Я говорю, что логос – это силовое поле, остов и каркас, который приносит с собой философ, ведя себя соответствующим образом в соответствующих ситуациях или местах. Но этот каркас, этот логос тоже подлежит изменению. И плох тот философ, который не меняет метод, не работает с методом и т.д. Поэтому это уже вопрос к функционированию института философии, и собственно институт философии – это такая организованность вокруг тех, кто меняет логос.
Тоже красиво сказал, и на этом закончу. Вопросы, релпики, замечания, комментарии. Обычно были, все предшествующие четырнадцать лекций были. Я требую, чтоб были хоть чуть-чуть и сейчас.
А.Л. – Пару раз не было. Один раз была такая длинная лекция на три часа…
В.М. – Но это было простительно, потому что было понятно, что там уже в процессе обсуждали тогда чего-то, а тут…
А.М. – Мы и сейчас в процессе обсуждали.
В.М. – Чего-то я не очень помню, чтобы мы в процессе чего-то обсуждали. Вопросов по-моему в этой лекции в среднем очень мало.
А.М. – Потому что это всё монологично.
В.М. – Ладно. Нет и нет. Комментарии-то могут быть, вот комментарий – монологично. Скажите ещё что-нибудь дурное и мы разойдемся.
А.К. – У меня вопрос.
В.М. – Да.
А.К. – Вот в прошлой лекции, Вы рассказывали про активность, про форму и содержание. Насколько я понял, это подавалось как экскурс эстетический, по крайней мере, был заточен под работу с проблемой мышления. То есть там более сложно: мышление, индивидуальность и МУС были задействованы. А вот сегодня про индивидуальность. Как это соотносится с тем предыдущим? Вы говорили, что будут экскурсы в логику, эпистемологию, гносеологию, этику. Можно по набору этих топов, этих названий сегодняшних что-то квалифицировать. Это так?
В.М. – Ага.
А.К. – То есть это последовательное развитие того, что было в прошлый раз?
В.М. – Но ведь это тематическое развитие, но по модальности оно отличается. Поэтому я говорил, что сегодняшняя лекция, в которой мне приходится говорить про этику, точнее – этос, не может быть в том же залоге, в той же модальности, что и предшествующие темы, лекции и т.д. Так а в чем вопрос был? Я прозевал.
А.К. – Вот про эстетическое отношение, эстетические формы и содержание, которое, мне кажется, некоторой своей стороной раскинулось ближе к мышлению, и что из того же разговора про индивидуальность можно раскинуть к мышлению, что называется – на тот берег? Это логос? Или вообще…
В.М. – Нет, скорее это праксис.
А.К. – Вот последнее, что Вы говорили про коллективного субъекта.
В.М. – Ну, скорее да. Для меня мышление – это есть то, что обсуждается в залоге практики. И ведь там какая фигня, если продолжать прошлую лекцию и соотносить её с этой: я, конечно, говорил в прошлой лекции, начинал рассматривать и должен затронуть и другие философские дисциплины – этику, гносеологию, и прочее и прочее. Но как я их могу затронуть? В том смысле, что если я начинаю обсуждать, что у меня на идеальном плане есть и логос и содержание, то, что я могу отчудить от идеального плана, и преподносить как философию Владимира Мацкевича через действие и оперирование со своей индивидуальностью и т.д., то в этом плане я говорю – если относится строго к этому, то философ не может не быть этическим релятивистом. Тогда все мои экскурсы или всё, что сопряжено с моими разговорами про этику… Вот помните месячник борьбы с гомофобией или ещё какие-нибудь там штуки, препирательства с Карач по поводу каких-то вещей, плагиат или ещё что-то – всякий раз, когда затрагивается, если брать в описательном режиме, этическая проблематика – я никому никогда не говорю, как поступать. Я совершенно нетерпим, когда мне приписывают, как я должен поступать. Если ты интеллектуал, ты должен. Пошли в задницу все. Я знаю, как должен вести себя интеллектуал. Я не могу, будучи философом, не быть этическим релятивистом. И если скажем, для не-философа, для обывателя или ещё для кого-нибудь, для профессионала в разных областях, будь то психолог или менеджер, правовед или политолог – для них существует набор этических предписаний, то философ, как только он определяется принятием этих этических предписаний – он утрачивает способность, утрачивает возможность быть философом. И этос философа – это этос, как бы это сказать… – как эта дурацкая книжка Макса Штирнера, «Единственное и его собственность»… – индивидуализм, предельный индивидуализм, возведённый в принцип жизни. И хорошо было Канту, который это понимал с молодых ногтей. И плохо было Сократу, который этого не понимал и получил Ксантиппу. Ну и так далее.
А.Е. – Почему ты называешь это этическим релятивизмом?
В.М. – Потому что если я не становлюсь этическим релятивистом, то тем самым я вывожу область этики за пределы радикального сомнения. Ведь я так или иначе должен представить этику в идеальном плане.
А.Е. – Но ведь этика философа – он всегда сохраняет самого философа.
В.М. – Именно поэтому я воздерживался бы говорить про этику философа. Вот про этос – да, про этос как единичное проявление.
Т.В. – А этос стоит за пределами радикального сомнения? Он выводится?
В.М. – Нет, но там радикальное сомнение переводится в режим рефлексии собственных поступков, действий и т.д.
А.М. – Давайте назовём это этическим волюнтаризмом.
В.М. – Ну ладно, я вообще с называниями, бывает, прокалываюсь. Ты вообще про это, что Мирошниченко говорит, добавляешь? Или что ты имеешь в виду, спрашивая про этический релятивизм?
А.Е. – Если не ограничивать только вот этим… про рамки скорее высказывание. Просто философ – если говорить в отрыве от предыдущего контекста – философ не может не быть релятивистом, то вопрос: может ли философ быть христианином? И тому подобное. Но если мы ставим это в рамки предыдущего высказывания, что этос философа, распространяется только на самого философа, и сомнению подвергается только сам этот этос, то тогда я готов допустить этот этический релятивизм.
В.М. – Философ в этом смысле может быть кем угодно, даже «голубым», как показывает практика Фуко.
А.М. – Или Витгенштейн.
В.М. – Про Витгенштейна не знаю, про Витгенштейна я знаю только про кочергу, не знал бы про кочергу, вообще бы ничего не знал.
Всё? Ладно, если больше вопросов нет, то на этом закончили.