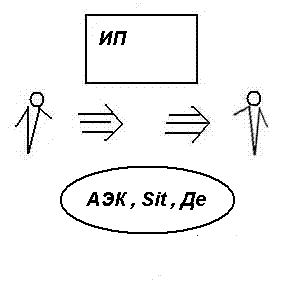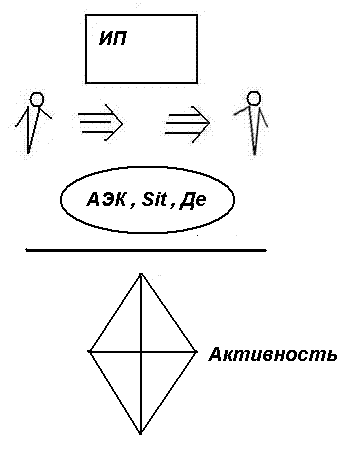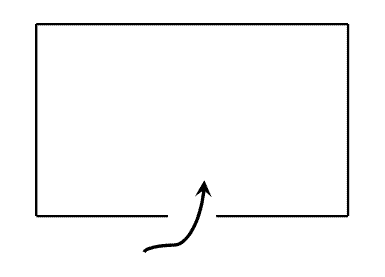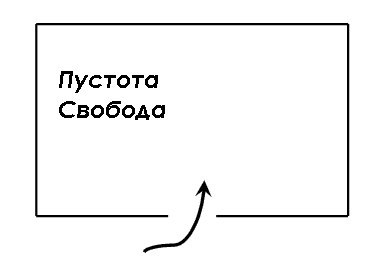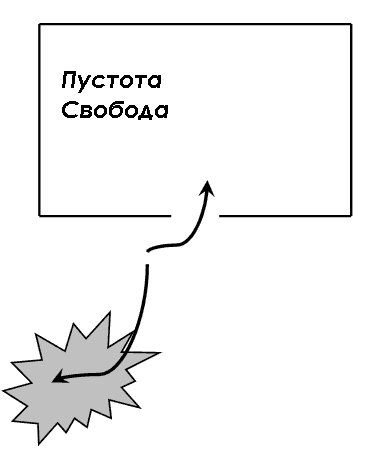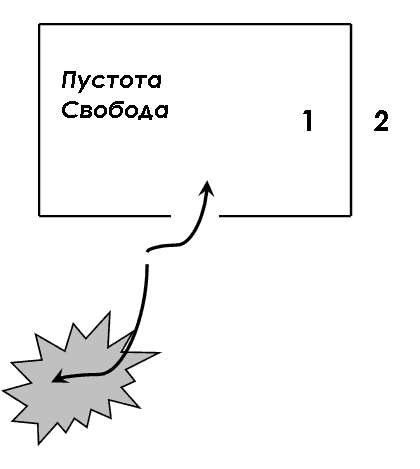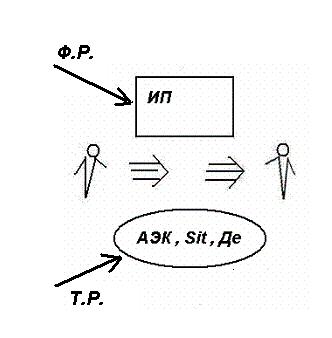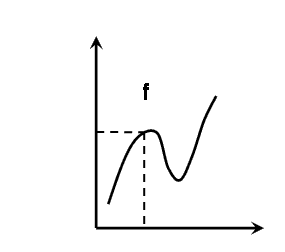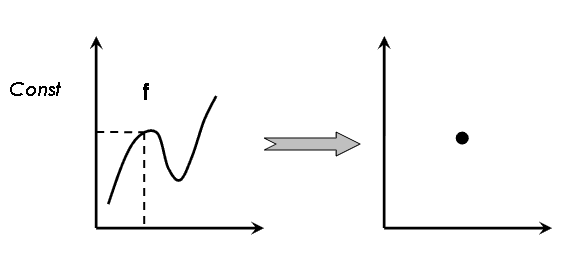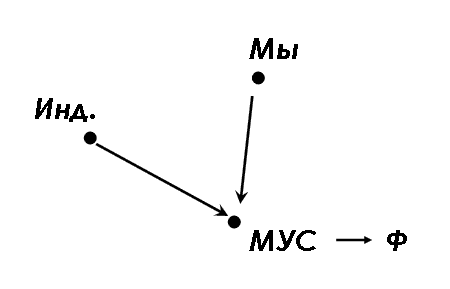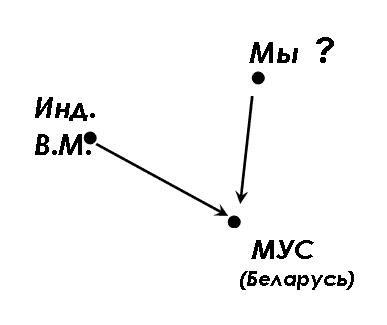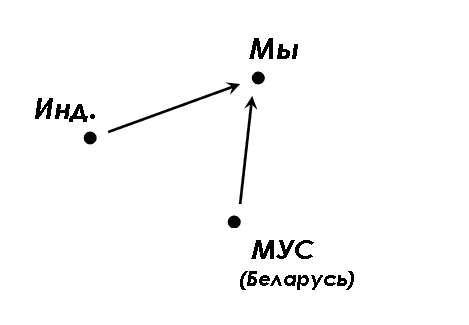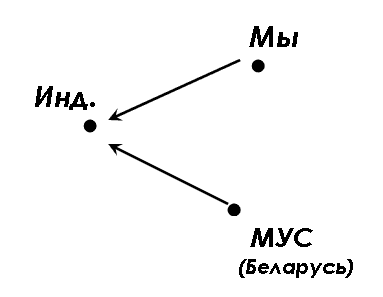Введение в философию. Лекция 14. Активность и активизм
5 марта 2009 г.
В.М. – Владимир Мацкевич
С.М. – Светлана Мацкевич
Т.В. – Татьяна Водолажская
А.Е. – Андрей Егоров
А.М. – Андрей Мирошниченко
А.К. – Андрей Комаровский
А.Л. – Алексей Ластовский
В.М. – После последней лекции я задумался о том, как продолжать развивать всё начатое, и, в общем, не пришёл к согласию сам с собой по поводу этого продолжения, и вопрос о продолжении перерос в размышление о том: «А что это было?», потому что то, что было, в общем, слабо связано с первоначальным замыслом.
Восстановление первоначального замысла в общих чертах выглядит таким образом. Мы столкнулись с большими трудностями по производству содержания в предыдущие два сезона методологического семинара (особенно в последний год) – те, кто заявлял и делал свои доклады, приблизились к, скажем так, некоторым границам своих возможностей, и поэтому продолжать дальше семинар методом выдавливания содержания и креатива из докладчиков не представлялось возможным. В этот момент мне было сказано, что для того, чтобы продолжать развивать начатые в предыдущем семинарском сезоне докладчиками темы, не хватает образования, грамотности, знания – в первую очередь, философского образования (по крайней мере, мне жаловались на философское образование, философскую эрудицию, кругозор и т.д.). Ну, и мой замысел состоял в том, чтобы взять некоторую паузу и попробовать начать рассказывать-выдавать некоторое философское знание, в первую очередь, из истории философии – то, что связано с мышлением. И, честно говоря, в первых двух своих лекциях я ещё удерживал этот первоначальный замысел. А потом я от него отошёл, и не то чтобы сбился с пути, но, по крайней мере, я пошёл по другому пути: я не стал восстанавливать историко-философское знание про это (про мышление) даже в том редуцированном виде, на который я сам был способен. И, как вы помните, обещанные лекции про историческое изменение мышления так и не состоялись, хотя это входило в первоначальный замысел.
Тогда – отказавшись от первоначального замысла, что я делал дальше? И вот, после последней лекции, размышляя об этом, я понял, что, на самом деле, я рассказывал то, что я понимаю и сам знаю про ту часть философии, которая составляет предмет моего интереса, и на который сосредоточено моё внимание. При этом, рассказывая про это, я мог формулировать какие-то вещи, которые в моём понимании, в моём собственном представлении, существовали в каком-то неартикулированном, несобранном виде – как некое неявное знание, неявное представление. И мне эти лекции дали возможность самому как-то «пригрести», сформулировать собственное представление. Если первые лекции я читал, ориентируясь на нескольких слушателей, в первую очередь олицетворяемых Водолажской, которая была на тот момент самой самоопределённой и даже пыталась реагировать на содержание лекций, то потом, с одной стороны, она перестала реагировать, а с другой стороны – я, поскольку сбился с этого пути и пошёл по некоторому совершенно аутичному, шизоидному пути, то, фактически, я потерял даже тех слушателей, которые у меня были потенциально и, как та девочка из анекдота, стал рассказывать сказки самому себе. (Знаете, девочка, когда просила бабушку рассказать ей сказку, а бабушка, занятая домашними хлопотами всё откладывала и откладывала, девочка обиделась и сказала: «Вот когда я выросту, стану бабушкой и смогу рассказывать сказки, я их буду рассказывать только для самой себя»?) Так и я эти лекции рассказывал в основном для единственного слушателя, каковым сам и был. Понятно, что мне для этого нужна была помощь – непосильный труд нескольких людей, присутствующих здесь, по переписыванию этих лекций. И, в общем, с какого-то момента я стал с интересом читать то, что там наговаривал, а потом, начиная с какого-то момента, дальше я начал их читать как вообще какие-то новые продукты, для себя, в общем, достаточно неожиданные. А потом я перестал читать, потому что я стал застревать на каких-то вещах. Знаете, это как – когда сложная книжка попадается, и человек останавливается на 54-й странице, не потому, что ему лень читать, а потому что он не может разобраться порой с тем, до чего он дочитал, чтобы двигаться дальше. Ну, это я, может быть, преувеличиваю немножко, но тем не менее.
И тогда я понял, что вообще у меня в жизни было несколько случаев, когда я оказывался в такой ситуации. Как правило, эти случаи связаны были именно с необходимостью выдачи вовне некоторого оформленного текста, знания. Это мог быть устный текст в виде лекций, а мог быть письменный текст. В этом смысле, до этих лекций у меня был такой опыт участия в написании и задумывании «Философского словаря» грицановского[1]. И я очень благодарен самому Грицанову, Абушенко, который, собственно, пока Грицанов сидел в тюрьме, втянул меня в это дело, потому что он тогда отвечал за формирование «словника» и написание словарных статей. Потом, когда вышел первый том «Новейшего философского словаря», я уже подключался и к формированию «словника», и даже к некоторой части по редактуре. Но на этом моё участие и закончилось, потому что я к тому времени уже рассорился с Грицановым как по коммунальным, так и по мировоззренческим основаниям. Но, тем не менее, те статьи, которые вошли во второе издание «Новейшего философского словаря», или – как оно там называлось? – «Всемирная энциклопедия: Философия», – они были таким случаем систематизировать какие-то мои представления на тот момент, и несколько статей (штук пять, как минимум, статей из этого словаря) до сих пор для меня являются такими этапными, что ли.
Эти лекции – это как бы повторение вот такой штуки, т.е. я в этих лекциях тоже попробовал систематизировать синкретический набор каких-то представлений, который у меня был и который не требовал выдачи вовне. До этого тоже были какие-то такие вещи, тоже связанные с лекциями или ещё с чем-то. Но вот то, что сейчас происходит, отличается от предыдущих таких ситуаций в жизни, потому что я не представляю себе конца, я не представляю себе, чем закончить этот цикл и куда он должен вырулить.
На самом деле, уже в том, что проделано и прочитано, есть масса ответвлений и незаполненных мест, которые нужно было бы заполнить, нужно было бы дорассказать, возвращаться к ним и т.д., и есть ряд таких вещей, которые не захвачены той линией, которая была намечена в этих лекциях. А эта линия обозначена двумя категориями: «мышление» и «индивидуальность». И, по большому счёту, главной из этих категорий является «мышление». И я пытался структурировать те синкретические представления, тот синкрет, который был, в некий конструкт. В конечном итоге в последней лекции я дошёл до топики идеального плана. И сейчас я вынужден остановиться на этом и сделать экскурс в некоторые параллельно существующие области философского знания. Не то чтобы я должен был бы на них как-то специально останавливаться, но двигаться дальше без оговаривания этих параллельных областей мне достаточно сложно.
То есть, что я делал? Я пытался строить конструкт, систему мышления (в первую очередь –организованного мышления), втягивая в это всё, что необходимо для того, чтобы мышление не просто представлялось как некоторая онтологема, как некоторая идея, но как обустройство жизни и функционирования этой идеи. И сейчас мне достаточно сложно определить, скажем так, философскую предметность, или философскую область, в которой помещается всё, что я там наговорил-нагородил.
Да, это – некоторое такое представление, или учение, о мышлении. Но я всячески старался уходить от онтологии и двигался где-то по границе логики (но тоже не углубляясь в логику, не заходя в неё), в некоторых аспектах я балансировал где-то на грани социальной теории (в качестве рамочного знания там привлекалась аксиология: некоторые характеристики ценностей и т.д.), но почти ничего не говорилось и никак не артикулировалось многое другое в философском знании. Т.е. я почти ничего не говорил про этику, про эстетику, ничего не говорил про ту же логику, много чего не говорил: я специально не вторгался в область эпистемологии и гносеологии, не смотря на то, что так или иначе много говорил про знание.
И вот сейчас я понимаю, что если не оформлять, не делать хотя бы каких-то вбрасываний, хотя бы каких-то полаганий в традиционные философские предметы, то не получится и сформулировать, собственно, ту предметную область, ту предметную зону, в которой я сам пытаюсь двигаться, в которой я структурирую имеющиеся у меня синкретические представления. Поэтому сейчас, дойдя до топики идеального плана, обозначив ту философию, которую я развиваю как радикальный идеализм, я сейчас – не знаю, сколько у меня это займёт времени, – попробую проговорить некоторые вещи из смежных, или параллельных, областей. И вот сегодня я решил начать с категории «активность».
С.М. – Зачем?
В.М. – Это правильный вопрос. Я его сам себе тоже задавал. Чтобы ответить вслух на этот вопрос, мне нужно предельно редуцировать ту схему, которую я на протяжении этой чёртовой дюжины лекций строил. И редуцированно эту схему можно изобразить таким образом: идеальный план; место порождения и локализации индивидуальности; и, опять же, синкретический комплекс, включающий в себя эмпирически-атрибутивный комплекс всяких таких вещей, ситуации, деятельность – в узком смысле этого слова и т.д. (рис. 1.1).
Рис. 1.1
Понятно, что эта редукция сама по себе представляет топическую схему. Это – топика, в которой не понятно, как связаны между собой элементы этой схемы. Т.е., грубо говоря, я ещё как бы упрощаю её и говорю: это – схема, включающая в себя четыре элемента. И нужно каким-то образом простроить связи между этими элементами. Более того, не просто обозначить структурные связи, но и связи функциональные, чтобы весь этот конструкт заработал, чтобы он начал как-то работать, а не просто лежать. И в качестве простейшей функциональной связи, «засунутой» в это всё, я беру активность, которую можно разместить в местах этой схемы, отведённой для присутствия в ней индивидуальности (рис. 1.2).
Рис. 1.2
Ну, это, грубо говоря, как мы возьмём какой-нибудь прибор и вынимем из него батарейки.
С.М. – Активность – как запускающий механизм всей этой схемы? Или что?
В.М. – Можно говорить про запускающий механизм, можно говорить про энергию, можно говорить про разность потенциалов и т.д., про какие-то такие штуки: что заставляет механизм двигаться, или что отличает труп от живого организма.
С.М. – Это, конечно, философский вопрос.
В.М. – А мы где? Мы – на философских лекциях, на лекциях по введению в философию.
Помимо активности и активизма, необходимо было бы затронуть упомянутую мной этику и эстетику, эпистемологию (наверное), теологию (наверное), необходимо было бы сделать какие-то дополнительные экскурсы в логику и… Что я ещё забыл?
Т.В. – И это всё нужно для описания функциональных связей, что ли? Т.е. наоборот всё: для того, чтобы обратиться к активизму, мы и редуцируем ту схему, в которой, в принципе, были функциональные связи? Были же там связи, в нередуцированной схеме?
В.М. – Я в нередуцированном виде о них говорил. Но это были связи, скажем так, проложенные. Тут ведь какая ерундень получается? Если мы обращаемся к философии не как к долдонству и тавтологии, повторяющей какие-то общеизвестные или только что найденные истины, а когда мы говорим про философию как про живое философствование – как то, что развивается, движется, делается, как то, что, например, Мирошниченко с Фурсом обсуждают как практическую философию или что-то ещё – то тогда там проложенных структурных связей заведомо недостаточно. Это – примерно, как прокладывание дорожек в жилом массиве или где-нибудь ещё: вы можете проложить красивые дорожки, а люди будут ходить, вытаптывая траву и уничтожая клумбы. Так же и здесь: мы должны рисовать не только логически, или онтологически, или ещё каким-то образом продуманные, придуманные, изобретённые структурные связи и отношения, нам ещё необходима живая реальность этого всего.
Т.В. – Непонятно, при чём тут живая реальность, потому что обсуждение активизма – это тоже будет продумываться и простраиваться, не имея никакого отношения к живой реальности. Как те связи простраивались, так и эта штука будет простраиваться.
В.М. – Почему?
Т.В. – Я, например, не вижу разницы в процедуре. Т.е. тогда Вы вводили в свою схему и обозначали какие-то связи для того, чтобы показать целостность представлений. Сейчас Вы говорите: «Вот, надо ещё про вот это поговорить». Откуда исходит необходимость поговорить про ещё всякие разные предметы в философствовании? Из какой-то жизненной необходимости, или живой реальности, философствования? Когда Вы говорите про живое философствование – ну, я не знаю…
В.М. – Я бы отвечал на этот вопрос двояко. С одной стороны, я бы отвечал в таком абстрактно-теоретическом залоге. Когда вы рассматриваете новую машину на выставке или ещё где-то, то вполне резонно, после того, как вы её посмотрели-ощупали, спросить: «А как эта штука работает?». И, скажем так: видеть её в работе и видеть её на стенде – это две большие разницы. Мне рассказывали такую басню на заре компьютеризации, что в Беларуси информатика в школах была введена задолго до того, как беларусские школы были оснащены компьютерами, и нужно было детям преподавать информатику тогда, когда они реального компьютера в глаза не видели. И один преподаватель труда в некой сельской школе, которого поставили преподавать информатику (потому что больше некому было), для наглядности, зная дидактику (он понимал, что без наглядности, вообще как детям про компьютер расскажешь?), выпилил у себя в мастерской из дерева монитор, системный блок, клавиатуру и на деревянных моделях рассказывал детям, как это всё выглядит.
Т.В. – И что? Вы хотите сказать, что в Вашем предыдущем повествовании, или в философствовании, ничего не говорилось о том, как это работает?
В.М. – В предыдущем моём повествовании чего-то не хватало. Я, конечно, не хочу сказать, что я совсем уж «деревянный компьютер» вам показывал-демонстрировал, но, тем не менее, вот эта штука как работающий механизм – она, по крайней мере, не обсуждалась.
Т.В. – Ну, в общем, я понимаю, что ответ на вопрос «Почему именно активизм?» – это: «Потому что мне кажется, что чего-то не хватает: например, этого», потому что мне про функциональные связи ничего не понятно. Почему именно активизм создаёт эти функциональные связи? А индивидуальность (как Вы её формулировали) не создаёт функциональные связи – то, что она соединяет все эти планы? И идеи тоже создают функциональные связи.
В.М. – Ну, я же ещё раз говорю: да, многие вещи вводились именно для того, чтобы обозначить связи и отношения между элементами вот этой редуцированной топической схемы. Но ты понимаешь разницу между структурными связями и отношениями и тем представлением связей и отношений, которые возникают после того, как вы можете предъявить ответ на вопрос «А как оно работает?»?
Это – однажды звонит юзер на станцию технической поддержки и говорит: «У меня чего-то Интернет не работает». Консультант и так, и сяк ему чего-то объясняет, а потом его спрашивает: «Ну а на экране у Вас появилась вот эта штука?» – «Ну, как оно у меня может появиться на экране, если у меня экран не горит?» – «Так, а что же Вы? Тогда включите компьютер» – «Да я, – говорит, – включаю-включаю, но у нас на районе света нет». В этом смысле, то, что я рассказывал, оно всё было как бы без света, если хочешь – оно не работает.
Это был абстрактно-теоретический ответ на твой вопрос. А есть ещё ситуативно-окказиональный, реальный, отсюда. Я уже, вроде бы, об этом говорил: с какого-то момента исчезли слушатели. Ну, просто вообще не понимаю: что слышится, что не слышится и т.д. Мы даже прекратили обсуждения лекций. Что это означает вообще для самого режима философствования? Если философствование, как я говорил (представим себе, что я был прав), – это разговор и рассуждение, то я могу себе представить на некоторый период времени монологичное рассуждение. Но если разговора нет, он не получается, обсуждения лекций нет… Дальше я возвращаюсь к тому описанию института философии, которое я сам в этих лекциях давал. И помните, что я там говорил – что должна быть критика, рецензирование, т.е. те процессы, которые фурычат в этом институте философии? «Где?» – говорю я. И тут я понимаю: «Блин, я же в розетку не включил, или как это: в районе свет не провели, наверное. И без этого всего вот эта штука не работает!».
Так понятнее?
Т.В. – Понятнее.
В.М. – Потому что… Ну, опять же, я об этом уже сказал, но просто надо…
Т.В. – Я сомневаюсь, что «включение в розетку» и рассказ про электричество – это одно и то же. Ну, ладно…
В.М. – Нет, здесь ты права…
Т.В. – Или Вы не собираетесь «включать в розетку»? Тогда как это?
В.М. – Вот, смотри. Нет, не собираюсь я «включать в розетку», и тут, конечно же, ты права, потому что я знаю только один способ «включения в розетку»: это превращение этого всего в организационно-деятельностную игру. Других способов вывести, скажем так, безграмотного, безрамочного – да чего там мелочиться – безмозглого обывателя в режим философствования я не знаю, это можно сделать только через игру. А как выясняется, дело не только в безмозглом обывателе, но и в людях, которые зачем-то и почему-то ходят на философские лекции.
А.М. – Дело во внутреннем враге, саботажнике.
В.М. – Это Мирошниченко сказал что-то умное, но, поскольку у нас нет обсуждения этики… Как, например, можно обсуждать категорию «враг» в тех понятиях и категориях, которые уже присутствуют на доске, будучи введёнными на протяжении тринадцати лекций? Там нет места для врага. Нужно ещё контекст определённый создать. И я думаю, что контекст врага создаётся через введение этики. А об этике я ещё не говорил. Буду о ней говорить, но, чтобы говорить об этике, мне нужно вообще хоть что-то сказать про природу активности. Хотя, нет, вру. Как раз про природу активности я вообще ничего говорить не буду. Тем более, что на самом деле сказать что-то про это мне достаточно сложно. Я ничего про это не знаю. Я знаю только то, что активность есть.
А.М.– Можно вопрос про активность? Есть классическое определение деятельности по Юдину. Он его формировал сразу после того, как общался в ММК, то есть после того. Деятельность есть специфически человеческая форма активности, которая – чего-то там – предполагает целесообразное изменение окружающей действительности, окружающего мира в соответствии с развитыми формами культуры. Такое определение. Там активность понимается шире деятельности: деятельность – форма активности. Активность это что-то неоформленное. Вы вот про это?
В.М.– Тут смотри, какая штука: про это ли я. Определение я давать не собираюсь. То, что я сейчас слышу у тебя про Юдина – оно в таком диаматовском контексте. Очень похоже, по крайней мере. Но что здесь важно для меня: это как раз введение категории формы. И собственно я начинаю говорить про то, что «Я вряд ли что-то могу сказать про активность» (я об этом предупреждаю сразу) с тем, чтобы потом сказать: «Но я хотел бы говорить и обсуждать формы». Потому что вообще схватывание таких вещей, как энергетика, энергия, активность и т.д. невозможно вне форм (точно так же, как материю, хаос и т.д.). Но, тем не менее, мы предполагаем, или считаемся с наличием некой активности. Вторая штука, которая здесь важна (в том, что ты приписываешь Юдину) – это понимание самой деятельности как формы. В этом смысле совершенно верно, что деятельность (если брать её онтологически, или не онтологически, а как-то счётным образом) должна быть уже, чем активность. Но тогда – как только мы таким образом это кладём – нам становится не очень понятным претензия деятельностного подхода на всеобщность деятельности.
А.М.– Почему? Всё как раз понятно.
В.М.– Если понятно, то да, но я думал как раз это обсудить специально. Без обсуждения мне кажется это непонятно. Если понятно интуитивно или у тебя есть какие-то формы схватывания этого, то ради бога. Я собирался предложить свои.
А.М.– Подождите, давайте разберемся на этом моменте. В этом определении уже фиксируется категориальное противопоставление формы материалу. Материал – это активность, а форму ей придаёт деятельность. Можно говорить про другие формы активности, типа поведения (реактивное поведение, например) или, например, игры. Игра есть тоже форма активности. В этом плане являются ли для Вас принципиальными такого рода альтернативы деятельности? То есть когда Вы говорите про то, что субстанцией мира, условно говоря, в деятельностном подходе рассматривается деятельность – то это неправильно. Методологически деятельностный подход исходит из принципиально других позиций. Он говорит, что мы будем действовать в форме деятельности. И мир не устроен как деятельность. Как-то так они подходили. Я в этом плане хочу у Вас узнать: принципиально ли для Вас это, и в этом ли залоге Вы будете говорить про активность?
В.М.– Я-то склонен думать, что представители деятельностного подхода всерьёз готовы были относиться к метафизическим заявлениям про то, что весь мир есть мир мышления и деятельности. И в этом смысле здесь важна категория врага: а чему противопоставляется такое суждение? Если этого не учитывать, оно становится абсолютно метафизическим – и тогда абсолютно непонятным. А если здесь понимать оппозицию натуралистического и деятельностного подхода, то формулировка такого типа помещается в контекст, и этот контекст надо рассматривать как минимум в разговоре, в коммуникации с двумя разными видениями, и обсуждения этого по поводу мира, который мы предполагаем как «вещи-в-себе», как материала, и тех категорий, понятий, форм схватывания этого всего.
А.М.– Нет, смотрите, у меня немного другой вопрос. Немного дальше, как мне кажется, заглядывая, для меня там возникает чарующая пустота. Я как раз понимаю, почему активность придаёт связи в какой бы то ни было системе. В этом плане для меня непонятно следующее: институт философии как форма активности – это деятельность, игра или что-то другое? Или мы самому институту философии можем придавать игровую или деятельностную форму?
В.М.– Я как раз думаю, что ответ на такой вопрос во многом определяется тем, как мы относимся к этой самой активности. Есть в философической теологии рассуждения про дух, который бродит сам по себе и не знает никаких формальных (или форменных) ограничений. Так вот, когда мы говорим про активность и формы: можем ли мы, наблюдая оформленную активность или в сопричастности с формами, сводить активность к тем формам, в которых мы её схватываем, или у активности остаются возможности «бродить» – как этому теологическому духу – там, где она хочет и вести себя как хочет, независимо от форм, которые мы обнаруживаем, придаём этому всему и т.д.? И у меня простого ответа на этот вопрос нет. Если мы кладём активность в соответствии со, скажем так, исходным смыслом, который сюда можно вкладывать, то мы должны понимать, что активность – это какая-то такая стихия, которая от форм как таковых не зависит, но не обнаруживает себя вне форм. Точно так же, как и материал. Но тогда мы должны относиться к активности как к этой самой стихии, наличие которой – просто по умолчанию или через постулирование – предполагается.
А.М.– У меня есть вопрос. Это хорошо, обсудим. Мы предполагаем, что формы, которые мы придаём, мы придаём уже наличествующей активности, или мы создаём некую форму, а потом туда «заселяем» какую-нибудь активность?
В.М.– Здесь опять же все достаточно странно. Вот, есть розетка. Мы предполагаем, что она подключена к сети. Для того, чтобы проверить, насколько это так, мы можем сунуть туда два пальца (или хотя бы один, в одну из дырочек). Но там будет как с динозавром: либо встретим, либо не встретим. А если мы сунем туда два пальца, то безошибочно определим наличие или отсутствие там некоторой энергии. Или батарейка (пальчиковая или какая-нибудь ещё), которую мы вставляем в некоторый прибор. Когда мы вставляем батарейку в прибор, прибор начинает фурычить (особенно, если кнопочку нажать), он начинает гудеть, попрыгивать, пищать, что-то там происходит. Мы предполагаем, что батарейка, включившая этот прибор, стала источником питания – он начал работать. А что есть в батарейке, пока мы её не включаем в прибор?
А.М.– Это Вы к чему?
В.М.– Я бы вообще, наверное, даже не задумывался об этом нисколько, если бы не та общественно-политическая практика, которой я занимаюсь в форме культурной политики. И, например, я наблюдаю в телевизоре бешеную активность в некоторых странах – в Секторе Газа, например, или в Афганистане, или в Грузии, даже на Украине. Я даже ездил подзаряжаться на Майдан в 2004-м году, чтобы немного привезти с собой этой активности. И я совершенно не вижу такой же активности в зоне, куда дотягиваются мои руки, и где я занимаюсь общественно-политической практикой. Тогда я спрашиваю себя: так что, беларусам вообще батарейки не вставили (забыли вставить), или эти батарейки разрядились?
А.М.– Вы так к каким-то пассионарным категориям придёте.
В.М.– Да нет, я, наоборот, ухожу от этого, потому что ошибкой всех предшествующих философов, занимавшихся категорией активности, являлось то, что они пытались выяснять природу активности. Я говорю: это бессмысленное занятие. Бессмысленное занятие выяснять природу материи, активности, и т.д.
А.М.– Надо брать напильник и эту материю…
В.М.– Точно. Материя, в более правильном схватывании – это материал, который обнаруживает себя только тогда, когда мы с ним что-то пытаемся сделать, и он сопротивляется этому, в той или иной форме. Так же и активность: мы можем предполагать активность в батарейке, но пока мы не вставим батарейку в прибор, мы не обнаружим никакой активности. Точно так же, как мы можем предполагать энергию в розетке, но пока два пальца туда не ткнёшь, она себя не обнаруживает. Поэтому когда мы имеем дело с такого рода категориями, бессмысленно обсуждать природу этих вещей. Хотя некоторые констатации по этому поводу в истории философии делались. И вот когда я встретился с фурсовской метафорой про «метров подозрений»…
А.М.– Фуковской.
В.М.– Фуковской? Ну ладно, я ж Фуко не читал.
А.М.– Так и Фурса не читайте, зачем Вам? J
В.М. – Да я и Фурса не читал вовсе. Просто приписали Фурсу эту штуку.
А.М.– Кто приписал?
В.М.– Где-то в разговоре.
А.М. – В книге есть статья Фуко под названием «Фрейд, Ницше, Маркс», где так и написано: «метры подозрения».
В.М.– Не читая про это, я рассматривал в другом разрезе эти фигуры XIX века как тех, в частности, которые предложили, скажем так, некоторые номинации для человеческой активности. Но они, предлагая эти номинации, не могли отделить (ну или, по крайней мере, некоторые этого не делали) зафиксированную активность от тех цепей, с помощью которых они замыкали источники этой активности. И обсуждали активность уже вместе с этими цепями, замыкающими электрическую цепь, в которой эта активность проявляется. Поэтому я не знаю, что движет людьми: экономический интерес…
А.М.– … сексуальность…
В.М.– …либидо с танатос-фактором на пару, или воля к власти и т.д. Мне это сейчас не важно, а важно другое: в зависимости от той формы, которую мы придаём, или, скажем так, в которую мы помещаем эти источники активности, это всё и проявляется. И поэтому обсуждение форм осмысленно и рационально, а обсуждение природы активности есть фантазирование и сочинение сказок.
А.М.– При чём тут природа? Про неё никто не спрашивал.
В.М.– Хорошо, в этом смысле я мог бы этого и не говорить, потому что с самого начала сказал: про природу активности я говорить не буду и ничего сказать не могу.
А.М.– Понимаете, я просто спрашиваю к тому, что Вы задаёте риторический вопрос: тут что-то происходит, но активности нет – народ ходит, а что-то вот… Вы про это, то есть нет необходимой формы?
В.М.– С одной стороны, нет необходимой формы. А с другой стороны, я говорю следующее: если нет формы, то с этой исходной «вещью-в-себе», которой мы обозначаем категорию активности, всё равно что-то происходит. Отсутствие видимых форм – это тоже некоторая форма для этого всего. Поэтому чёткое структурирование и изобретение форм есть обязанность, в нашем случае – философов – для того, чтобы институт философии начал фурычить.
А.М.– Каких форм: деятельностных форм или знаковых?
В.М.– Любых.
А.М.– Хорошо.
В.М.– Потому что если бы я ограничился какими-то формами, то я попался бы в ловушку онтологизации, и дальше из неё не смог бы выкарабкаться. И тогда я, возвращаясь к той преамбуле, которую говорил перед тем, как начать про активность и активизм по отношению к этим лекциям, я аутично, монологично излагаю то, что я про это понимаю и могу понять. В этом смысле простейшая штука про активность выглядит следующим образом (рис. 2.1). Активность мы обнаруживаем, грубо говоря – метафорически – как сквозняк в некотором отверстии, в некотором открытом месте форм к чему-то бесформенному; там, где мы можем локализовать эту самую активность.
Рис. 2.1
А.М.– Можно ещё раз повторить?
В.М.– Вы, конечно, можете смеяться…
Т.В.– Вы же аутично рассказываете, поэтому не обращайте внимания.
В.М.– Я особо не обращаю внимания, но меня беспокоит немного другая штука: не смех как таковой, а опасение, что…
А.М.– … мы просто идиоты. J
В.М.– …что то, что я говорю – оно не слышится.
С.М.– Это у нас так активность во всей форме проявляется.
Т.В.– Вы же итак сказали, что мы все 13 лекций не услышали. Так какая разница?
В.М.– Именно это и побуждает меня обсуждать активность. Поэтому каждый намёк на «неуслышанность» меня тонизирует. Я сказал вначале, что мне – для того, чтобы двигаться дальше, после того, как я обозначил топику идеального плана, – не хватает экскурса в некоторые смежные области. Я даже называл такую область, как эстетика. Вы, конечно, пропустили это мимо ушей: «Подумаешь, Мацкевич сказал, что он ещё много чего не наследил в других областях, среди которых, наверное, есть животноводство, и т.д. Но вряд ли у Мацкевича дотянутся руки до животноводства. Ну а про эстетику он нам, конечно, чего-нибудь наврет. Но это всё можно пропускать мимо ушей». Я говорю: «Я не могу обойти стороной эстетику, потому что эстетика есть философская дисциплина о хороших формах». А как только я начинаю обсуждать активность, про природу которой я ничего сказать не могу, т.к. не знаю, то я могу обсуждать активность в том, где она обнаруживается. А обнаруживается она через заполнение форм. И как только я попадаю в область форм, я попадаю в зону (если хотите) эстетики. А как только я попал туда, я вынужден обращаться к такого рода оборотам: активность обнаруживает себя как сквозняк в дырке некой формы, которую активность заполняет. Чего тут не понятного?
А.М.– Активность заполняет…
Т.В.– … форму. Как сквозняк дырку. J
А.Е.– Нет, дырка – это тоже форма.
Т.В.– Как ты сквозняк обнаруживаешь? Сквозняк дырку заполняет? J
А.Е.– Он не заполняет её.
Т.В.– Он обнаруживается. J
В.М.– «Майор Пронин сидел и читал книжку. В форточку дуло. Майор Пронин поёжился, закрыл форточку – дуло исчезло» J.
Реплика: Сквозняк, кстати, обнаруживается только при разности давления. То есть должно быть ещё одно отверстие с другой стороны.
В.М.– Это уже очень сложно для меня. Это уже наука начинается: физика и т.д. Хотя, в общем, правильно. В этом смысле мы можем говорить о разнице потенциалов, но только если мы сможем говорить об этом, оставаясь в рамках эстетики, не переходя на физические штуки. В этом случае разность потенциалов есть эстетическая категория. Эстетическая категория предполагает наличие некоторой пустоты для того, чтобы туда «дуло», но не просто пустоты, а пустоты, тождественной свободе (рис. 2.2).
Рис. 2.2
Активность проявляется, обнаруживает себя и действует тогда, когда она заполняет форму с достаточной пустотой, чтобы это можно было заполнять. Если формы полны, то «туда» не может быть никакого заполнения. То есть, для активности тогда нет возможности актуализации, активность не актуализуется, с одной стороны. А с другой стороны, если для активности не предлагаются хорошие формы (хорошие с точки зрения самой формы и с точки зрения заполнения их пустотой, свободой), то активность нейтрализуется, или выхолащивается, или энтропирует в других формах (рис. 2.3).
Рис. 2.3
Т.В.– Как можно определить «хорошесть» форм по отношению к активности? «Хорошесть» может быть только по отношению к чему-то внешнему: контексту и т.д.
А.М.– Я так понимаю, речь идёт о том, что если она проявляется – значит, хорошая форма, не проявляется, энтропирует – значит, плохая форма.
А.Л.– Но здесь же намекали на эстетику. То есть я так понимаю, нужно введение категории эстетики, чтобы придать хорошую форму чему-то.
А.М.– Нет, эстетика – это просто теория форм. Не более того. А «хорошесть», действительно, может быть связана только с внешним…
Т.В.– С каким-то контекстом.
В.М.– Да, с каким-то контекстом. И этот контекст тоже нужно откуда-то брать, вытаскивать.
Т.В.– Я просто – когда про хорошие формы говорили – вспомнила наши разбирательства с малыми городами и активностью, и утилизацией активности. Там есть некие формы – оформление человеческой активности. Мы их называли плохими – с нашей точки зрения, из нашей прагматики. А – я думаю – для тех, кто эти формы воспроизводит, они хорошие. И это какие формы: плохие или хорошие? Там активность энтропирует или …
В.М.– Понимаете, чтобы дойти до этого, нужно ещё сделать целый ряд шагов. Я скидывал вам статью Акулова про философию и философствование, когда он ругал Фуко и прочих долдонов и говорил: «Философия – это же так просто, это всё уже написано в учебнике Айзермана», и дальше рассказывал, что есть такое философия. Для того, чтобы разбираться с подобного рода текстами, я больше чем уверен, что недостаточно ни логики, ни знаний и т.д.
А.М.– Нужен топор. J
В.М.– Нужны такие вещи, как эстетический вкус или что-нибудь ещё. Но я про эстетический вкус могу говорить примерно в тех же категориях, как и про активность, то есть могу обсуждать формы, но не могу обсуждать природу. Но обсуждение форм предполагает набор всякого рода предметных знаний.
В этом плане я вспоминаю нашу последнюю школку, или точнее конференцию по городам, где Шибеко, рассказывая историю городов, вводил категориальную оппозицию: закрытые / открытые города. И говорил, что города греко-римско-иудейского мира, из которых развилась европейская цивилизация, были закрытыми городами, то есть городами внутри неких стен. И были открытые города, в которых стен не было. Городские стены давали некоторую форму для развития: одно дело – то, что внутри, и другое дело – то, что снаружи. Города, которые были оснащены стенами, регулировали один порядок внутри стен, другой порядок – вне стен. Вокруг городских стен достаточно быстро образовывались посады, предместья и т.д. Предместье – это буквально «перед местом»: до того, как пройти в ворота города, вы проходите некое поселение, которое зачем-то «присобачилось» к этому городу. И жизнь в поселении перед городскими воротами – предместье, и в месте, куда вы попадаете через ворота, разная. Возможность этой разницы обеспечивается закрытостью, или городскими стенами. Эти стены (в этом смысле) являются формой, которая не только что-то закрывает и ограничивает, но и открывает возможности для разницы, а, стало быть, и для рефлексии этой разницы, и для дальнейшего превращения исходной жизненной активности в некоторое мышление. Без этого мы имеем дело с открытыми городами восточного типа, которые тоже возникают как некоторое место, но неограниченное, и дальше могут разрастаться до огромных Шанхаев, Багдадов, Стамбулов и т.д., где практически нет разницы между тем, что внутри, и тем, что снаружи. И далее этого понятия «внутри» и «снаружи» нет, есть достаточно гомогенная территория, заселённая какими-то людьми. То же самое можно говорить про разные другие формы. Соответственно, как только мы начинаем рефлектировать эту разницу – между тем, что в форме, и тем, что бесформенное, – мы можем на этом строить разного рода типологии активности (рис. 2.4).
Рис. 2.4
И, в конечном итоге, я бы сказал так (пока не касаясь того разделения форм, достаточно фундаментального, про которое говорил Мирошниченко, например: игра и деятельность, – я поведение вообще не рассматриваю в данном контексте, хотя его тоже надо было бы рассматривать и, в общем, никуда от этого не денешься: как только мы затрагиваем какие-то этические формы, там обязательно приходится говорить о поведении): разница между игрой и мышлением или между деятельностью и мышлением только в форме активности. Более того, я бы сказал, что это не просто разница в форме, а почти эстетическая, вкусовая разница, про которую можно говорить в эстетических формах: не в этических – хорошо / плохо, а в эстетических – хуже / лучше. В этом смысле дефициентна категория красоты.
А.М.– Это как-то по-мамардашвилевски получается, с его этикой мышления.
В.М.– Я очень люблю человека по имени Мераб Константинович Мамардашвили, но не засовывай его к Фуко. Я тоже не читал в этом месте Мамардашвили: когда мне предложили прочитать его длинную нудную книжку про девушек в цвету (или как она называется?) – про Пруста, короче, – не смог я осилить этой всей белиберды.
Поэтому, наверно, Мамардашвили тоже затрагивал эти вещи; и я не специалист в них, более того – я очень мало про это понимаю, но я не могу обойти этой темы, развивая ту свою философию, которая есть. Поэтому я говорю (как про дырку со сквозняком): мышление – это красиво, а деятельность на фоне мышления – это грубо и уродливо. А по сути своей – это одно и то же, если хотите.
Т.В. – Мне, например, непонятно. Почему? Потому что мышление, я так понимаю, начинало, по крайней мере, рассматриваться как деятельность. Схватывалось в форме деятельности, потом мыследеятельности. Вы теперь разводите и говорите, что деятельность – это одно, а мышление – это другое. Тогда в какой форме схватывается мышление? В красивой?
В.М. – В эстетических формах. Или так: в эстетическом отношении к формам.
Т.В. – Ну, Владимир Владимирович, Вы, когда излагали что-то о мышлении, Вы пользовались инструментами деятельностного подхода и схемами деятельностного подхода. В этом смысле в каком-то отношении рассматривали мышление тоже как деятельность. Или нет?
В.М. – Ну…. В определённом отношении – да. И в некоторых формах схватывания – да. И что?
Т.В. – Мне непонятно различие между мышлением, которое красиво, и деятельностью, которая некрасива.
А.М. – Нет, как я понял, он говорил следующим образом: когда мы описываем мышление как деятельность – это скучно, некрасиво…
Т.В. – Да, это я поняла. А когда мы кладём как что, когда красиво?
А.М. – Что значит: «как что»? Когда возникает вопрос «как что?», то возникает вопрос «в каком отношении?». Т.е., когда мы размышляли, например, про мышление как деятельность, нам нужно было построить мышление и, соответственно, мы делали это в форме деятельность. А теперь мы берём это в рамке красоты. Что такое мышление? Ну, хрен его знает, но что-то красивое. Вот такое вот – когда им занимаешься, очень нравится, кайф и т.д. А вот когда деятельностью занимаешься, то лопатой машешь.
В.М. – Не так.
Т.В. – Просто понимаете, я помню из того, что я когда-то читала, что когда начинали заниматься мышлением, проблема была в том, каким образом его схватывать. И эта идея схватывания его через деятельность, и проблема того, что может схватываться как-то по-другому – не разрешилась. Не перешли к какой-то иной категории или предельной онтологии, через которую можно схватывать. И само мышление не является такой…
А.М. – А игра?
Т.В. – А игра – это другое. Мацкевич же говорит про мышление и деятельность, а не про деятельность и игру. Схватывание мышления в виде деятельности – это некрасиво, а в виде игры – красиво?
А.М. – Нет, я просто говорю, что мы можем, допустим, взять и сделать следующую после деятельности… Ну, т.е. мышление как деятельность была первая стадия, мышление как игра была вторая стадия…
Т.А. – Она ещё не в том состоянии.
А.М. – Ну, вот такая ублюдочная стадия. И третья стадия как…
Т.В. – Как что? Само по себе. Красота.
А.М. – Да, субстанция чистой красоты.
В.М. – Нет, я не понимаю, о чём вы говорите. Думая о своём о девичьем, я бы обсуждал это иначе. Вот скажем, человек исходно наделён телом. Это тело как пространственно-временная структура наделено некоторой активностью. Грубо говоря, человек может ходить. Человек может ходить, но мы можем рассматривать ходьбу и бег как совершенно разные вещи. Но разница – говорю я – между ходьбой и бегом есть разница в форме, а не в исходной способности. Соответственно, в чём, собственно говоря, разница? Мы можем разницу между бегом и ходьбой зафиксировать в некоторых квазиколичественных характеристиках. Например, человек бегущий быстрее и дальше может оказаться, чем человек идущий. Отлично. Но я говорю, что это не совсем корректная штука, потому что так мы можем рассматривать и сравнивать только некоторые такие формы, например, ходьбу, бег трусцой и спринтерский бег. А если мы возьмём другие формы проявления этой телесной активности – например, танец? Что такое танец в этом смысле? Это то же самое, что ходьба и бег. Нет никакой разницы между танцем и ходьбой в этом плане – кроме формы. Но как мы можем сравнивать танец и ходьбу? Бессмысленно сравнивать их так, как мы сравниваем ходьбу и бег. Там у нас есть количественная характеристика: сколько мы пробегаем за отведённое время. Например, был такой олимпийский вид спорта на первой Олимпиаде – часовой бег. Что такое часовой бег? Обычно бег на дистанцию отмеряется: за сколько человек пробежит определённую дистанцию фиксируется секундомером. В том виде спорта всё было наоборот. Вот тебе час, и куда убежишь за этот час – и там меряется рулеткой, сколько пробежишь за этот час. Разница от этого как бы… Хотя в то же время, я думаю, с точки зрения управления собственным организмом часовой бег, пятиминутный бег, ещё какой-то бег, вообще говоря, гуманнее. Потому что когда мы настраиваемся на бег, мы можем по-другому настраивать свой организм, разная форма идеомоторной тренировки, если мы настраиваемся на час или пять минут или добежать до ближайшего столба. И будет совершенно другая система подготовки, тренировки и т.д. Но там мы можем выставлять количественные характеристики, но переносить эти количественны характеристики на сравнение ходьбы и танца глупо, потому что в танце люди вообще никуда не идут. Два шага налево, два направо. Шаг вперед и два назад. Они топчутся на месте.
А.М. – А в функциональных формах можно сравнивать?
В.М. – В функциональных я не знаю, я говорю пока про эстетические. Но тогда я говорю, что и эта количественная разница в спорте тоже на самом деле имеет эстетическую природу. Вот и всё.
А.М. – Ну, смотрите, давайте так. У Канта, например, эстетика имела отношение исключительно к формам, и неважно – красота, не красота – в этом плане особого значения не было. Причём он про это говорил в пространственно-временных формах. В этом плане – это чисто формальная наука о формальном как таковом. Для Вас же, как я понимаю… Вы закидываете туда момент красоты… чего-то такого.
В.М. – Нет, я страдаю от недостатка категорий (наверное, мало читал Фуко и самого Канта тоже). Я страдаю от недостатка категорий, я говорю про красоту не как про красоту… И в этом смысле я солидарен с Кантом, что в эстетике достаточно анализа форм. Но помимо анализа форм как таковых мне нужно ещё некоторые выборы делать: идти или бежать, танцевать или садиться на собственные ягодицы и катиться.
А.М. – Я понимаю. И в этом смысле форма напрямую связана с функциональностью, как мне кажется.
В.М. – Возможно.
А.М. – Т.е. никаких форм, кроме функциональных, в принципе быть не можем. И тут мы можем делать сравнение.
В.М. – Возможно. Вообще, смотри какая штука: представим себе, что люди были бы не людьми, а механизмами, у которых была бы соответствующая функция. Ну, например, точить болты или отпускать колбасу тонко нарезанными ломтиками. И было бы очень удобно, если бы после нарезки определённого количества колбасы тонкими ломтиками можно было бы найти кнопочку и человека выключить. Но там, оказывается, какая беда: человек, нарезавший определённое количество колбасы тонкими ломтиками, уходит с работы. Он уходит из места выполнения функции и попадает в пространство, в котором ему либо предлагаются формы, либо не предлагаются. К сожалению, у него нет кнопки, чтобы его выключить, как мы выключаем компьютер или можно было бы выключить робота. А человек попадает в пространство неоформленное. И там, выйдя из-за прилавка, он может сесть и обдумывать способы нарезания колбасы ещё более тонкими ломтиками. А может пойти и надраться как свинья, и ни о чём не думать. У него есть выбор. И когда я начинаю обсуждать эстетику форм с привлечением категории красоты, я обсуждаю фактически вот этот недосмотр: отсутствие у человека кнопки выключения. Потому что активность человек сохраняет и за пределами некоторых обязательных форм, оказываясь в ситуации, где он должен делать определённый выбор. И можно функционализировать это всё, и мы получим город Солнца, в котором будет сказано: «Так, землю попахал, теперь у тебя, блин, три часа на написание стихов».
А.М. – Владимир Владимирович, ну просто получается, что Вы дерационализируете, в принципе, эту проблему, эту тему выбора. По-вашему, выбор нерационален: взбрело в башку что-то – пошёл написал стишки, потому что такова природа человеческой сущности, активности.
В.М. – Природа философии и философствования состоит в том, чтобы рационализировать идеальный план; и природа техники – чтобы рационализировать в соответствии с идеальным планом неупорядоченную материю, энергию, активность и т.д. (рис. 1.3).
Рис. 1.3
В данном случае я не дерационализирую, а наоборот – пытаюсь искать и нащупывать формы рационализации активности.
А.М. – Нет, подождите. Когда Вы обсуждаете источники выбора между формами, Вы уже описываете природу активности, но Вы же сами говорили, что не будете этого делать.
В.М. – Я не описываю природу активности, я говорю о другом. Я говорю, что мы можем сравнивать формы. Свинья грязь найдёт. Активность в любом случае куда-то проявляется. Я вот не знаю, если бы у компьютеров не было кнопки выключения, чем бы занимались компьютеры по ночам. J Трудно сказать. Но люди… И дальше, смотри какая штука: там что-то у Юдина было про культуру, напомни, пожалуйста.
А.М. – Определение?
В.М. – Да.
А.М. – Я повторю с самого начала. Деятельность – это такая специфическая человеческая форма активности по преобразованию окружающего мира…
В.М. – Вот эти глупости мы пока выбросим…
А.М. – …окружающего мира в соответствии с развитыми формами культуры.
В.М. – Отлично. Вот я теперь обсуждаю…
А.М. – Два раза формы, заметьте, употребляется.
В.М. – Отлично, отлично. Два раза формы, но на самом деле там по умолчанию проводится ещё несколько форм. Например, целесообразность там какая-то, всякая такая фигня. И все диаматчики думают, что они что-то умное сказали в этом месте. Но теперь, обрати внимание, красивая штука – «развитые формы культуры». Меня очень интересует эта фигня – развитые формы культуры.
А.М. – Вы ехидно хотите спросить, что за развитые формы культуры?
В.М. – Да, я хочу сказать, что я тогда должен говорить о развитых и о недоразвитых.
А.М. – Ни фига подобного. Там речь идёт немножко о другом – о трансляции культуры и о том, что каждая последующая форма транслируемой культуры развитее, чем предыдущая. Там всё по методологическим делам. Речь идёт о том, что мы выбираем в качестве форм культуры самую развитую форму. И там есть определённый процесс по развитию форм культуры.
В.М. – Вот понимаешь, какая штука: до тех пор, пока мы остаемся в рамках Марксовской трактовки деятельности или в рамке, скажем, дуализма форм производства и клуба, то мы по умолчанию предполагаем, что мы легко различаем развитые и неразвитые формы культуры. А у меня такой лёгкости нет. Потому что если я возьму чувака с улицы и приведу его, скажем, в музей, и покажу ему Энгра, например, «Девушка с кувшином» и, например, Матисса, скажем, «Память». Энгр – анатомически правильный рисунок с вывихнутой рукой, но вывих тоже можно померить и даже дать рекомендации по вправлению руки, красивое обнажённое тело на фоне точно выписанного пейзажа, который, по крайней мере, позволяет определить биогеоценоз, в котором он нарисован и т.д. Проникновенные глаза, обращенные…
А.М. – Ну, короче, натуралистично.
В.М. – Красиво. Красиво, просто обалденно. Ты не видел, наверное, никогда.
А.М. – Нет, подождите. Вот что касается красоты…
В.М. – И Матисс, который в конце концов, когда ослеп, вообще перестал рисовать, а делал аппликации, вырезая из бумаги на ощупь ту самую мазню, которую он раньше красками рисовал.
А.М. – Понимаете, это к разговору об эстетической ценности «Чёрного квадрата».
В.М. – Я про это тебе и говорю. И кто более развит? Энгр или Матис?
А.М. – Энгр, конечно.
В.М. – И с какой стати?
А.М. – Подожди, кто рисовал…
С.М. – Девушку?
В.М. – Девушек рисовали все.
А.М. – Нет, мазню.
Т.В. – Мазню – Матисс.
А.М. – Значит, Матисс.
В.М. – С какой стати?
А.М. – Вам надо рассказать сейчас про теорию цвета в частности, чтобы Вы поняли – почему. Потому.
В.М. – Нет, ну в теории цвета я не силен.
А.М. – Так вот, понимаете, с эстетикой такая фигня и происходит. Сейчас, например, все ищут развитые формы художественного произведения по сравнению с предыдущим. И не находят, потому что всё кончилось после чёрного квадрата. Я про это и говорю. Фишка вся в том, что красота в академической культуре, в частности (под академической я имею в виду не художественные академии, а вообще культурно отстроенную сферу, где есть чёткие критерии красоты и т.д.), где преподаётся классическая живопись, например, где есть чёткий критерий красоты / не-красоты, более развитых эстетических форм / менее развитых – там есть чётко прописанный прогресс, условно говоря. И только за счёт этого – условно опять же говоря – производятся некие новые нормы культуры, постмодернизм, археоавангард. Именно за счёт этого мы можем говорить про развитие культуры.
В.М. – Слушай, я чего-то отвлекся. Правильно ли я понимаю, что развитые и неразвитые формы культуры можно померить в сантиметрах?
А.М. – Нет.
В.М. – А тогда про что ты сейчас говорил?
А.М. – В других формах.
В.М. – Каких других?
А.М. – Функциональных.
В.М. – Ну вот смотри. Если я на первом этапе деконструкции форм…
С.М. – Эстетика вообще нефункциональна.
А.М. – Подождите, давайте разберёмся с понятием функции. Вот что такое функция?
С.М. – Слушай, вот сейчас взяли и сказали, что такое функция.
А.М. – Это связь одного пространства с другим пространством.
С.М. – Я так не могу…
А.М. – А я могу. И в этом плане, когда мы говорим про функцию, мы говорим, каким образом, допустим, одни знаковые формы переводятся в другие знаковые формы. И есть принципы…
С.М. – А ты можешь рассматривать форму вне функции?
А.М. – Могу, я могу делать всё, что угодно.
В.М. – Вот смотри, функция в том виде, в котором задал её Мирошниченко, есть переменная и она в этом смысле бесконечная. И в классическом выражении она связывает между собой две другие переменные. В конечном итоге мы можем изобразить функцию, про которую сейчас сказал Мирошниченко, в декартовых координатах (рис. 3.1).
Рис. 3.1
И тогда есть две конечные или бесконечные переменные и кривая, которая их связывает. Функция – это такая штука, которая и связывает конкретные значения, в общем виде. В более конкретном виде мы, как правило, определяем функцию через задание константы на одной из переменных. И вот это задание константы мы называем целью, например: когда мы говорим – «привести в соответствии с чем-то» и т.д., и саму эту процедуру задания константы на одной оси или в одном из пространств, которые связаны этой самой функцией, мы можем рассматривать не иначе как самостоятельную функцию. А эта самостоятельная функция предполагает превращение всей этой картинки ни во что иное, как в точку в каком-то ином пространстве из этих штук (рис. 3.2).
Рис. 3.2
А.М. – Ну и что?
В.М. – И получается, в общем-то, дурная бесконечность, если мы думаем, что на любом этапе, на любом уровне рассуждения слова «цель», «функция», «назначение» сохраняют то же самое значение, что и на другом этапе рассуждения.
А.М. – А вот Вы скажите: Вы формально работаете с формами или неформально?
В.М. – Я сейчас, по-моему, работаю с формами предельно формально.
А.М. – Так вот про это я и говорю.
В.М. – И что? Вот я и говорю, что до тех пор, пока…
С.М. – Функция не задаёт форму для формы.
А.М. – Функция задаёт функцию для функции. Мацкевич про это сейчас сказал. То же самое с формами – можно работать только формально. И что дальше?
В.М. – Точно. И поэтому у меня тезис по этому поводу. Я не знал, как к нему подойти, мы подошли благодаря вопросам и обсуждению, каким-то таким образом. У меня был тезис, который формулируется лозунгом Серебряного Века или начала модернизма (как я понимаю начало модернизма, хотя, наверное, не понимаю много из того, что понимают большие знатоки), гласившего: «искусство для искусства». А как только мы понимаем эту штуку применительно к тому контексту, который я сейчас вводил про эстетику и форму (или про анализ форм), то тогда мы должны зафиксировать отсутствие функционального назначения или положить запрет на функциональное назначение для форм, но это не избавляет нас от выбора между разными формами. Более того, когда мы не просто выбираем сами – я даже не уверен, насколько мы сами можем выбирать формы своей активности – а когда мы занимаемся неким конструированием, комплексированием, когда мы делаем конструкт… Вот я на предшествующих лекциях делал такой конструкт, который называл мышлением. Я в него вкладывал целый ряд вещей – карбюратор какой-то, колёса, коленвал, всякую такую фигню нагородил – и всё это сейчас соединил в некоторой механической структуре. Дальше, на сегодняшней лекции – вначале – я говорил: теперь надо найти мало того что кнопку, запускающую всю эту фигню, но и соединить, ещё раз проверить соединение таким образом, чтобы там не было короткого замыкания, чтобы это всё фурычило. Помните, как это у сержанта Радара спрашивают, когда гаишник останавливает на улице машину и говорит:
– Штраф за превышение скорости.
– С чего Вы взяли, что я скорость превышал, у вас что, радар есть?
– Есть. Сержант Радар, выходи. Как должен был ехать автомобиль?
– Вж-ж-ж-ж…
– А этот как ехал?
– Вжих!
И здесь примерно такая же штука. Я же знаю, как должен фурычить институт философии. А он не фурычит, я кнопку нажимаю, а он молчит.
Так вот – говорю я, не скрывая своего прагматического интереса, – с какой стати я всё это говорил и городил на протяжении многих лекций, и вообще, в более широком плане, затевая методологический семинар, измеряя его сезонами и т.д.? Я говорю, что я, по большому счёту, выстраиваю пространство собственного существования. И в этом смысле я несу форму с собой, предлагая их бесформенным сущностям. И тут есть несколько типов отношений между мышлением, материальными условиями существования (скажем, социумом), индивидуальностью и т.д. Я пока буду, наверное, работать с этими тремя элементами:
- индивидуальность;
- материальные условия существования индивидуальности;
- мышление как смысл существования конкретной индивидуальности.
Эти три конкретных элемента связаны между собой некоторыми отношениями активации и оформления активности и активизма и наличествующих форм. Возможна ситуация, когда материальные условия существования содержат или несут в себе формы. И тогда эти формы, по большому счету, заполняются активностью и индивидуальностью. Индивидуальность принимает эти формы. И мышление тоже, поскольку мы говорили, что мышление отличается от деятельности, поскольку это другая форма, которая заполняется активностью. Предложенные в материальных условиях существования формы заполняются тем, что есть энергетического, активного в этих двух других элементах – индивидуальности и мышления (рис. 4.1).
Рис. 4.1
Т.В. – Если мышление – это форма активности, то как она заполняет другую форму?
А.М. – А кто тебе сказал, что форма не может быть в форме? Звездочка в круге, кружок в квадрате.
В.М. – Нет, не так. Т.е., может быть, и так, но вне форм я вообще не могу говорить про активность без мистико-эзотерико-фантастического…
Т.В. – Я так понимаю, у Вас получается, что в одном из пространств есть форма – в социальном пространстве есть форма. Кто тогда заполняет эту форму – активность или мышление, которое само является красивой формой активности?
В.М. – Ты где-нибудь видела батон или сыр?
Т.В. – Бывало.
В.М. – Вот скажи, пожалуйста, какая форма у сыра?
А.М. – Когда порежут – клинышками.
С.М. – Развитая.
В.М. – У сыра такая форма, в которую мы его засунем, если не считать дырочек в сыре.
А.М. – Балаган какой-то.
В.М. – А дырочки в сыре возникают независимо от той формы, в которую мы его засунем.
Т.В. – Если форму сделать, чтобы дырочки возникали, то будут возникать зависимо.
А.К. – Спрессовать или в зависимости от формы определённое количество дырочек, если константа дырочек, коэффициент образования дырочек при разном масштабе форм…
А.М. – Давайте запишем в задачи и выложим на методколлегиум. Сыризм какой-то. J
В.М. – А как же мне в данном случае…
А.М. – Из этого болота выбраться.
В.М. – Да, добиться понимания.
С.М. – А что нужно понимать?
А.М. – Как возможна форма в форме.
В.М. – Ну вот смотри. Я выше проговорил про то, что есть некая активность, и она принимает предложенные формы. Ну, например, активность может принимать форму деятельности, а может – мышления. Тогда я говорю, что отличие между деятельностью и мышлением – отличие по форме, формальное. Тогда, что я называю мышлением? Называю ли я форму мышлением или я называю мышлением заполнившую эту форму активность? Дальше. Что происходит с активностью, когда она заполняет форму? Перестаёт ли активность быть активностью, когда она эту форму заполняет? И целый ряд таких вопросов. Я дальше не проговорил их, и тогда я говорю, что это опять же побуждает меня к эстетике и почти к поэзии. Что есть красота? Сосуд или огонь, пылающий в сосуде? И вся эта поэтическая байда, которая про это существует.
Так вот я должен сказать, что вне формы мы активность обнаружить не можем. Но активность, заполняющая форму, не перестаёт быть активностью. Но она не проявляется, если ей не предлагается некая другая форма. Опять нужны какие-то формы. И теперь: некая активность оформилась как индивидуальность, некая оформилась как мышление, и в данном случае я называю индивидуальностью некую активность, принявшую определённую форму. Мышлением я называю некую активность… Я даже не знаю, это одна активность или разные, потому что я про природу активности ничего сказать не могу. Я могу называть это «шилом в заднице», ещё чем-нибудь и т.д., но говорить я могу про активность только тогда, когда она принимает определённую форму. Но дальше – утверждаю я – она не перестаёт быть активностью. Хотя некоторая перестаёт. Вот скажем, если мы заполняем водой стакан, то пока она в стакан течёт, она обладает некоторой энергией. Она в стакане отстоялась и дальше никуда не течёт, но если мы в стакане дырочку проделаем, она опять будет течь. Также и с индивидуальностью, мышлением и пр. Оттого, что активность принимает некую форму, она сама по себе активностью не перестает быть, пока существует, наверное, пресловутая разность потенциалов, ещё что-то. Теперь я говорю уже про те формы, которые в этом треугольнике: индивидуальность, мышление и материальные условия существования. Под материальными условиями существования я здесь могу более конкретно обозначить – «Беларусь», например. Под индивидуальностью я могу обозначить себя – «В.М.» (рис. 4.2).
Рис. 4.2
Оставляя мышление искомым. Например, мне не составляет никакого труда вписаться в предлагаемые материальными условиями существования Беларуси формы. Никаких трудностей – пойти учителем этики, эстетики в школу. Рассказывать про сквозняк. Позняк, сквозняк… J
Реплика – И дырочки в сыре.
В.М. – И дырочки в сыре. Не знаю, ещё что-нибудь такое. Пойти записаться в БХД, например, мне даже должность дадут. Чего тут непонятно? Я почему про дырочки в сыре, про все прочие вещи вынужден говорить? Не исчезает активность, когда мы предложили ей форму. Она остаётся, если мы предлагаем новую форму. Я сейчас рассматриваю другое: я сейчас рассматриваю, как и где хранятся формы, и что куда перетекает и как активность утилизируется. Я могу предположить, что это мышление содержит в себе формы, и тогда материальные условия существования, или Беларусь, принимает форму мышления (рис. 4.3).
Рис. 4.3
Третий вариант – когда я приписываю формы индивидуальности (рис. 4.4). И тогда индивидуальность навязывает формы, которые заполняются активностью. Из этих форм (мышления) и из этих форм (материальные условия существования).
Рис. 4.4
К сожалению, у нас сейчас получается – в силу существующего мировоззрения – «прымусовая» штука, когда материальные условия существования фактически являются единственным вместилищем форм, и тогда они навязывают соответствующие формы мышления. Но как сделать так, чтобы разорвать эту штуку? И в этом смысле работа института философии для меня означает вот эту вещь: институт философии, когда он «включён» (кнопочка «включено», лампочка, диодик, диодик гарыць, всё фурычит, вибрирует), работает на то, чтобы втянуть, всосать в эту самую конструкцию – индивидуальность и мышление – активность из материальных условий существования. Но для этого тогда всю эту конструкцию, которую я таким образом обозначил – материальные условия существования, или Беларусь, – надо начать по-иному рассматривать. Но для начала – снять, отшелушить, разоформить, провести деконструкцию форм, которые на ней заданы.
Легко сказать, потому что мышление мыслит формами. Мышление – это то, что формально. И по этому поводу к моему рассуждению, к моей сегодняшней теме подбрасывает дров в топку последний доклад Водолажской про социальность. И дальше я говорю: что меня коробит во всех этих социальных теориях – это то, что почти как у этих «мэтров подозрений», природа активности, взятая в формах, не разводится, не разотождествляется с самими формами. И тогда формы диктуют требования на проявление активности. А изменять материальные условия существования можно, только предлагая другие формы. Другие формы, которые не могут появиться из исследования самих же материальных условий существования.
А.М. – Можно повторить еще раз?
С.М. – А если не из исследования, то откуда?
В.М. – Вот смотри, какая штука. Возвращаемся к самому началу. Есть вещи, которые не схватываются, не мыслятся – вообще никак не попадают в чувства, сознание, мышление – вне форм. И тогда: откуда вообще берётся наше представление, знание об этих вещах (как-то: материя, активность и т.д.)? – Оно берётся из наших спекуляций по этому поводу. Из спекулятивной рефлексии, то есть только тогда, когда мы доходим в своих рассуждениях, в своём философствовании – в спекулятивном, в первую очередь, философствовании, в режиме радикального идеализма – доходим, например, до таких полаганий, что существует активность. Не желание, не прихоти, не электрическая энергия или ещё что-нибудь – а существует активность. Но как только мы начинаем говорить про активность, то в этом месте мы про неё говорим вне форм. Мы её просто положили, она в идеальном плане появилась в этом смысле, но как только мы что-то осмысленное про неё хотим сказать, мы должны говорить с формами. Поэтому активность, материя, дух – это та самая точка, та самая идея бессодержательная, которая кладётся в наше рассуждение.
А.М. – Типа «вещи-в-себе» Канта.
В.М. – Ну близко к тому, наверное, но в терминах той философии, которую я тут разворачиваю, об этом стоило бы говорить скорее как про идею. И тогда, идея – она бессодержательна, про неё ничего сказать нельзя. Как только мы что-то про неё утверждаем, мы сразу придаем ей некую форму. И до тех пока мы удерживаем эту разницу, что, придав форму, мы говорим не о форме – хотя в форме – не о форме, а о том, чему придана эта форма. Мы ещё помним, что она есть. И мы об этом судим и говорим. Но как только мы об этом забываем, мы начинаем транслировать это как некое онтологическое знание. И тут мы сразу вываливаемся из философии и начинаем говорить уже в предметном, научном знании. Но дело в том, что за пределами философии мы не можем удерживать её (идею) вне формы, спекулятивно. А как только мы её потеряли – спекулятивную, как «вещь-в-себе» – мы сразу же думаем, что мир устроен в соответствии с той формой, в которой мы это в предмете обсуждаем. И мы начинаем думать, что классы, как некая форма проявления спонтанной социальности – существуют. Ну и прочие какие-то штуки.
Но тогда, как только мы дальше начинаем – уже с набором инструментов, которые у нас порождены в идеальном плане, – начинаем исследовать, скажем так, реальность, материальные условии существования, и т.д., мы находим там ни что иное, как то, что у нас в идеальном плане было. И всё исследование в этом смысле есть тавтология. Поэтому, как только мы обращаемся к материальным условиям существования, как несущим формы, и начинаем исследовать это, чтобы, например, предложить программу реформ или ещё что-нибудь – ни хрена у нас не получится. Из исследования это не вытекает, чтобы мы ни исследовали, мы в любом случае получим описание тех форм, которые мы сами сюда приписали. И тогда, говорю я, нужно изменить отношение между тремя этими идеями: идеей индивидуальности, идеей мышления и идеей материальных условий существования индивидуальности и мышления. Каким образом изменить? – Сделать константными формы, приписанные не материальными условиями существования, а либо индивидуальностью, либо мышлением.
Т.В. – Там формы не онтологические, а организационные.
В.М. – Там всё по-разному может быть, и одним из способов приписывании этого я могу назвать эстетические критерии. Это раз. Потом, другая форма предлагалась в своё время Протагором, я к нему обращался несколько раз. Человек есть мера всех вещей, существующих в том, что они существуют, и не существующих в том, что они не существуют. Тогда не материальные условия существования несут на себе формы, а индивидуальность – и мера и форма, которая вмещает в себя все эти штуки. И в чём разница в этом смысле? – Я всё никак не приступлю к «Диалогам с Акудовичем», и вот эта давно запавшая фигня с его афористикой: «мяне няма», «без нас» и т.д. и т.д. Я размышлял про все эти самые штуки, понимая постмодернизм и эссеистичность и вообще экзистенциальность акудовичевских заходов, и в поисках возражений я отбрасывал одни возражения за другими, приходя к тому, что единственным ответом на эти акудовичевские заходы может быть только то, что: «Акудовіч, цябе няма, а я ёсць».
И дальше, на этой картинке я обсуждаю буквально следующее: что Акудович, рефлектируя себя самого, Валентина Акудовича, оправляется в исследовательскую экспедицию в материальные условия существования в поисках там себя, и там себя не обнаруживает. И дальше пишет отчёт: «Мяне няма». Ему говорят: ладно, ты всё про себя да про себя, ты ж исследовал это, в экспедицию туда ходил, расскажи и про это. Он говорит: пожалуйста: «без нас» – «усё, што там адбываецца, яно без нас адбываецца».
Я говорю: у меня принципиально другой культурно-политический подход. Я прихожу в эти материальные условия существования и говорю: плевал я на формы, которые у вас сюда кто-то впендюрил. Они говорят: как это? Это же блин, Маркс, Машеров, Лукашенко, они всё продумали, промыслили, ты же не можешь так обходится с этим всем. Я говорю: ну давайте разберём, как мыслили Лукашенко с Машеровым про это, и тогда вы увидите, что тут «марнасць», а не железобетонные формы.
Почему? Потому что я говорю, что с моим приходом сюда всё вообще в стране изменилось. Я могу так сказать, только по-иному расставив вот эти акценты – с активностью и формой. Про что я и хотел вам сегодня вкратце доложить и предложить.
Вопросы, реплики, замечания? Критику я сегодня не принимаю, потому что рассказал настолько плохо это всё, что не до критики. J
А.М. – У меня вопрос. Вот я, честно говоря, вообще не понял, каким образом вы вообще пришли вот к этой самой хрени, но мы оставим это в стороне, потому что виноват в этом докладчик. Но у меня все время такая мысль…
В.М. – Я могу повторить. Это то, что всегда приводит в восхищение Водолажскую, когда я отвечаю на вопросы. Я могу повторить.
А.М. – Вы просто слишком много нагородили, чтобы потом такую тривиальную схему… Это мне так показалось, исключительно потому что у меня такое эстетическое восприятие.
В.М. – Так в чём вопрос?
А.М. – Так вот, вопрос следующий. Когда вы рассказывали про форму и активность, у меня всегда возникал вопрос, как бы вот нам – людям работающим с формами – зафиксировать наличие бесформенной активности?
В.М. – Нет, у меня такого вопроса не было.
А.М. – Ну, условно, короче говоря.
В.М. – Нет такого вопроса у меня, и он даже не предполагается.
А.М. – Ну хорошо, замечательно. Я немножко про другое. Как нам не утратить связь с активностью, условно говоря, если мы имеем дело…
В.М. – Тоже нет такого вопроса.
А.М. – Вот когда я спрашивал про «вещь-в-себе», помните, про что Вы говорили?
В.М. – Я буквально имел в виду следующее: у меня в Агентстве гуманитарных технологий-Центре социальных инноваций полтора десятка заряженных батареек, которые я никак не могу собрать в мощную батарею – такую, которая питала бы всю деятельность. А мне говорят: у тебя формы такие-сякие.
А.М. – А, ну короче, я вспомнил, про что я хотел сказать. Всё это время я думал про Лакана.
В.М. – Вот уж меньше всего про что я думал, так это про Лакана.
А.М. – Нет, это я думал.
В.М. – Я не могу ничего тебе сказать про Лакана.
А.М. – Нет, это я скажу. Там расписывается у него про речь и в общем про бессознательное. Что говорит, когда лежит на кушетке…
В.М. – Чего ещё ждать от психоаналитика?
А.М. – Да. Когда человек лежит на кушетке в гипнозе и говорит, то кто говорит? Ну, традиционный психоаналитический ответ означал, что говорит «Оно». А Лакановский ответ означал совершенно другое – что «Оно» есть структура языка. К чему я про всё это говорю? Потому что когда Вы говорили про форму – есть там куча заряженных батареек, но не получается одной заряженной батарейки; так может быть куча заряженных батареек – это и есть результат активности? Условно, если говорить в каузальных категориях, причиной этих форм является активность. Она порождает такие формы, а не наоборот.
В.М. – Нет, вот смотри…
А.М. – И мы какими-то действиями не придаём форму активности, а наоборот.
В.М. – Вот смотри. Я, не читая Лакана, когда-то изучал психологию, краем задел в том числе и психоанализ. И все эти штуки, как родовые травмы пробуждения моего мышления, они, в общем, имеют место быть. Я, в общем, не могу сделать разницы между сексуальной энергией и, скажем так, жаждой власти или амбициозностью, или просто горячим желанием бабла, чтобы выпить пива. Понимаешь, какая штука: в этом смысле мне абсолютно неважно, откуда берётся энергия. Я, в общем, вслед за психоаналитиками привык, что активность – она найдет выход: в сексуальном ли поведении, в силовом, или в войне и агрессивности и т.д. и т.п. И в мышлении. Блин, какого хрена там эти Фрейды и прочие будут городить мне про сублимации, там и прочее и прочее – мне это совершенно неважно. Мне важно в этом месте другое. Я говорю про активность и формы, которые она принимает. И дальше я говорю, что у меня нет никаких иных критериев, кроме эстетических, по отношению к выборам между этими вещами. И, в общем, я знаю точно, что в области реализации сексуальной энергии – там эстетика на первом месте стоит по большому счёту. Как это всё сублимируется в области культуры? – Ну вот тут я начал рассуждать про Энгра и Матисса. Про Малевича я уже молчу, просто убийца всего на свете.
Во всяком случае, там такая эстетика. А что такое эстетика, и как мы со всем этим работаем дальше? – Я понимаю, «на вкус и цвет товарищей нет», и прочее, и прочее. И поэтому начинаем вводить не товарища, а индивидуальность как способ работы со всеми этими штуками. И после этого я говорю: индивидуальность – это хорошо, но когда индивидуальность оказывается в соответствующим образом оформленных материальных условиях существования, то может оказаться, что там нет места для активности индивидуальности. В этом смысле мы тогда понимаем, что либо вся эта индивидуальность подлежит стиранию, и в этом смысле вся идеология закрытого общества, врагов открытого общества – она направлена на это. Либо мы тогда должны переосмыслять эстетические критерии, категории и т.д. И понимать, например, что на сегодняшний день вообще ничего эстетического в поэзии нет. Или нет ничего эстетического в станковой живописи.
А.М. – Но зато в политике…
В.М. – Да, тогда надо искать иные формы активности индивидуальности. Если мы переместим целиком формы индивидуальности в мышление – то там тип форм иной. И в общем мы тогда не будем касаться вот этих вещей, потому что в тех формах, в которых индивидуальность и мышление креативят, продуцируют чего-то или функционально друг на друга замкнуты – там эстетика ни при чём. Эстетика появляется только тогда, когда мы имеем дело вот с этими материальными условиями существования. И вот там начинаются эти отношения, и я поэтому три эти штучки зарисовывал. И честно говоря, многие вещи, которые я про себя понимаю… Почему я про это сегодня заговорил? Об этом вот так и в такой форме никогда, наверное, не говорил, особенно на методологических семинарах. В преамбуле я об этом говорил – ну то есть я пересказываю по новой, ещё раз лекцию читаю. Не буду, раз вам не нравится, раз у вас такой испорченный эстетический вкус. На этом я заканчиваю. Ещё вопросы, реплики, замечания?
А.К. – Если можно вернуться к предыдущей странице, там нарисовано. Вот я попытаюсь высказать, что я хотел бы спросить. У Вас в первом рисунке…
В.М. – Первый – это какой?
А.К. – Не в первом, а во втором, который Вы там рисовали (рис. 2.2), полагали внутри формы пустоту и определённого рода свободу, в которую активность попадает, «заливается», «входит» и т.д. Может, схватывая прагматическую целостность сегодняшней лекции, я могу сказать, что это одна из версий того, как формы функционируют, что ли. По-моему Вы попытались донести нам необходимость расклеивания форм и активности. Ну, не чистой активности как таковой, а активности, которая предъявляется в некоей форме. В этом смысле нормальная повседневная установка – это стрелочку направить изнутри формы вовне.
В.М. – Ну да, обычно думают так.
В.М. – А вот Ваш рисунок – он такой революционно-преобразовательный, что ли. Возможно отслоить такую чистую активность, которую можно залить потом в определённого рода форму. Я вот помню, на конференции про малые города Вы рассказывали, про человека, который проламывал в Париже открытые проспекты…
В.М. – Про Османа.
А.К. – Османизация: то есть это так устроить городскую среду, чтобы примерно соответственно и мышление, и индивидуальность развивались. Обозримость больших пространств, подконтрольность, пресечение, ну и т.д. Но это когда работают «МУС» и «прымус». А вот остальные формы, то есть вот эта работа, когда стрелочка направлена из формы вовне… Сам этот рисунок, он в некоторой степени завершённый, и не в процедурной форме, его надо ещё разворачивать. Что никогда – даже если стрелка направлена из формы вовне – никогда активность не оформлена в совершенстве. В какой-то просто… процедурная форма при догонке или формовании, я не знаю как сказать, доведение до формы, которая вовне в среде распознается действительно как форма. Как трепыхание, например, как учёба танцу и есть красивый танец уже в совершенной форме и т.д. То есть, когда Вы расклеиваете активность – условно расклеиваете, не разрываете, но расклеиваете активность с формами, это говорит о том, что появляется действительно свобода, чтобы преобразовывать, «пере-заливать», я бы сказал, в различного роды формы. Вот только вопрос, как эти формы…
В.М. – Да.
А.К. – …и откуда они полагаются, которые потом можно делать. Нечто от обратного существующее, это поиск еще чего-то неизвестного. Ну и т.д.
В.М. – Да, но вот тут теперь смотри, какая штука. Я сегодня проговорил с активностью и активизмом про эстетическую функцию как функцию выбора, как то, что позволяет выбирать. Дальше необходимо говорить про аксиологические какие-то функции. Ну, например, что ценностью не являются заполненные формы, заливка форма, а ценностью является смена формотворчества. Потому что залитые формы – они активности не предполагают. И тогда аксиология важна в этом смысле. Точно так же как, скажем, индивидуальность: как ставшая индивидуальность – сколь угодно мы бы не говорили про яркую индивидуальность и т.д. и т.д. – она заканчивается, как только прекратилась индивидуализация.
Т.В. – А вот к этому: вопрос к тому, что Вы на следующей картинке рисовали, когда ставили константу на формах индивидуальности или мышления. И если там ставить константу, то она ставшая и остаётся. Это форма.
В.М. – Я говорил про эти самые штуки именно таким образом.
Т.В. – Тогда изменяется МУС, а это всё остаётся константным.
В.М. – В принципе да. В пределе – да. Но в этом смысле по отношению к индивидуальности — а ты помнишь экологическую нишу обитания индивидуальности, она обитает только в институте философии — в этом смысле там должен быть постоянный приток и проточность материала, на котором может быть задана индивидуальность. Потому что – в этом смысле педагогика идеала – каждый учитель рано или поздно становится долдоном и развитие его учения, мастерства, ремесла, искусства возможно либо в форме того, кто пойдёт дальше и больше, либо в отрицании через еретиков и еретизм. И поэтому: материал конечен для индивидуальности. Я опять же, наверное, десять лет назад, двадцать лет назад не мог сказать эти самые штуки. Но если я начинаю примерять индивидуальность к себе, то я говорю, что рано или поздно я закостнею, я уже на глазах костнею. И индивидуализация моя движется к исчерпаемости. Если я хочу её сохранить, я должен заботиться об институте философии. И ценить индивидуальность в другом, в том, в котором это не заканчивается. Поэтому смещается акцент заботы – помнишь, я говорил в какой-то лекции про заботу? Индивидуальность есть предмет заботы, но акценты в этой заботе смещаются. До поры до времени я и любой другой должны заботиться о собственной индивидуальности, присваивать индивидуальность, пытаться про себя думать в плане индивидуальности. Начиная с какого-то момента я начинаю дальше нести формы, которые становятся константами, а заботу об индивидуальности перекладываю на другого, или его – другого – делаю предметом заботы в плане индивидуализации. Ну а там опять же начинается – подходящий и не подходящий материал для этого и т.д.
Это как с фандюшницей. Имея хороший сыр, мы можем получить хорошее фандю (или хорошую фандю?). Имея сыр без дырочек – получим фигню.
С.М. – Ну, у каждого разные вкусы.
В.М. – Вкусы, конечно, разные и можно говорить про детали, и тогда мы попадаем в сферу «эстетически-вкусового». Но другое дело, что эта падла фандюшница – она не каждую сырную массу готова переплавлять. И там начинаются другие критерии сравнения. Материал сопротивляется.
Всё, нет больше вопросов? Спасибо за внимание.
[1] Имеется в виду «Новейший философский словарь» / Под ред. А.А. Грицанова. – Прим. ред.