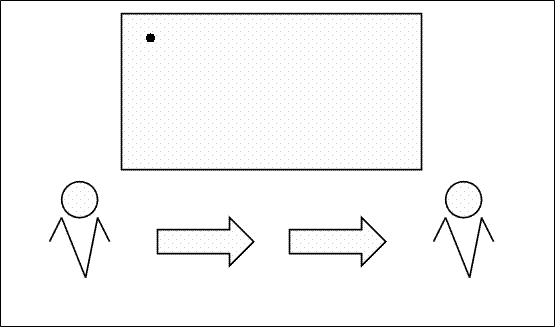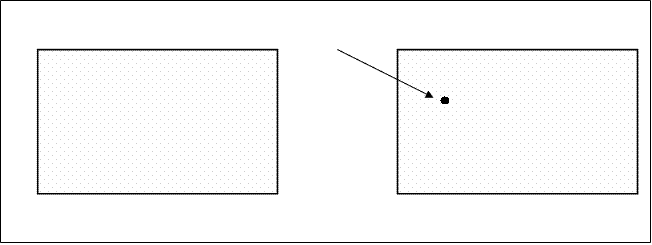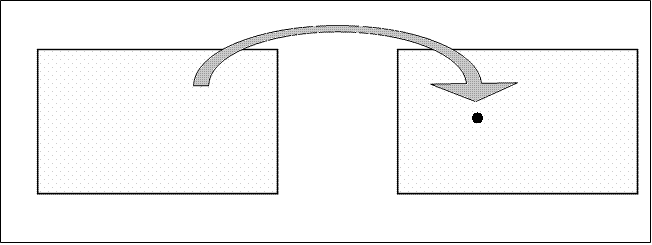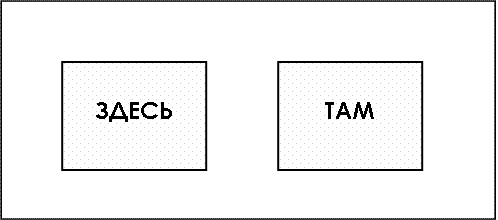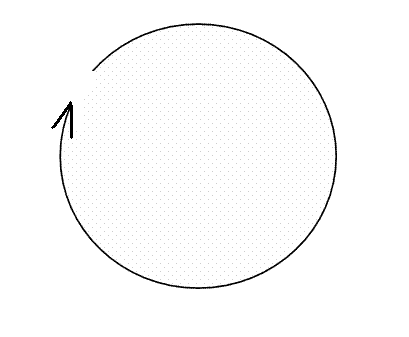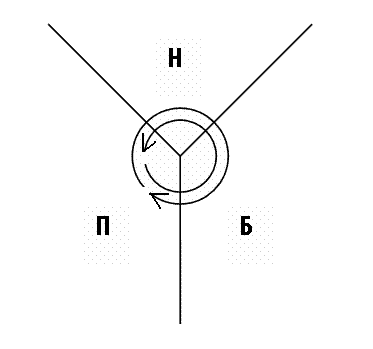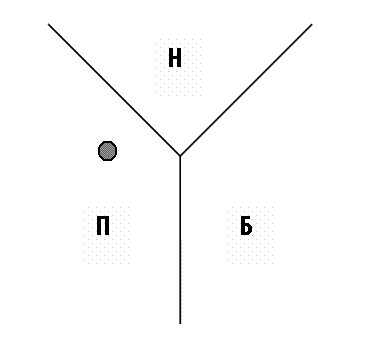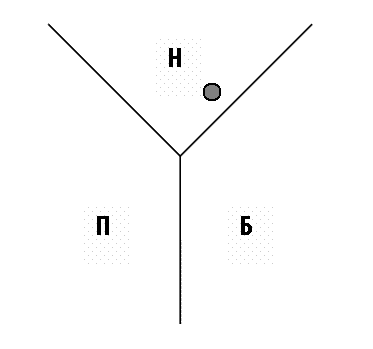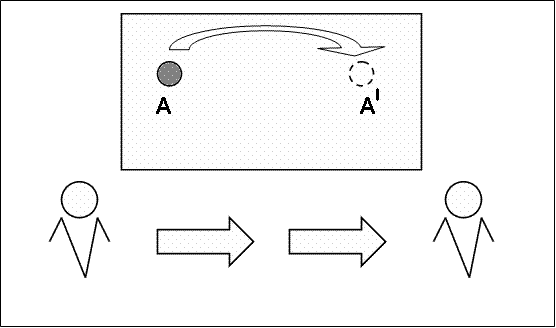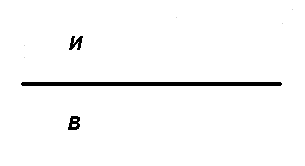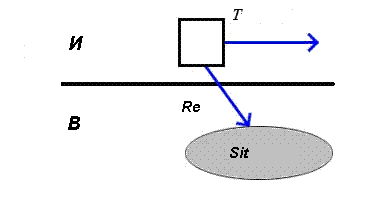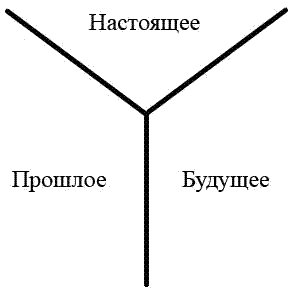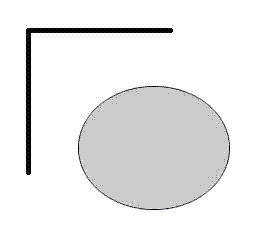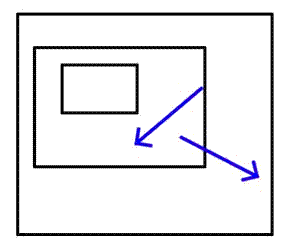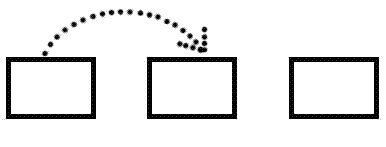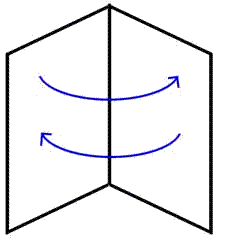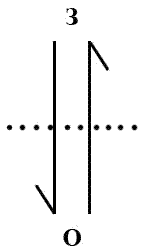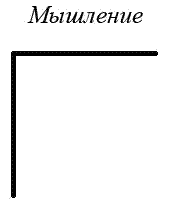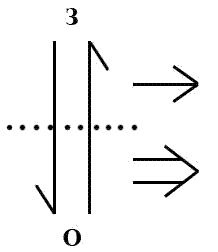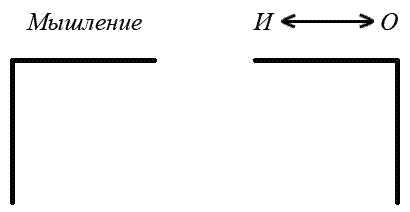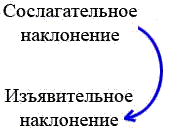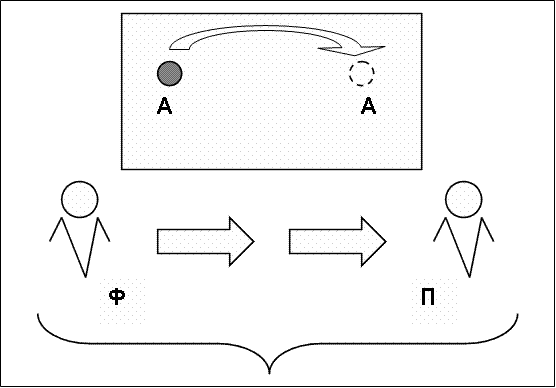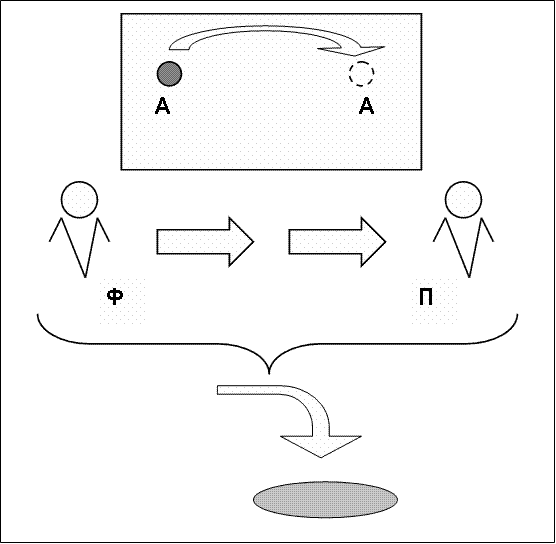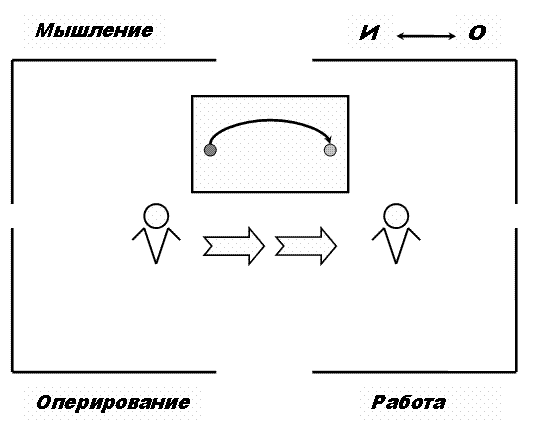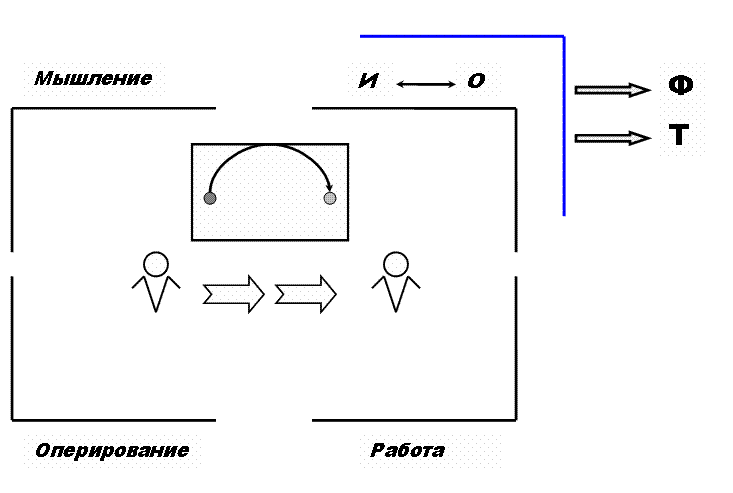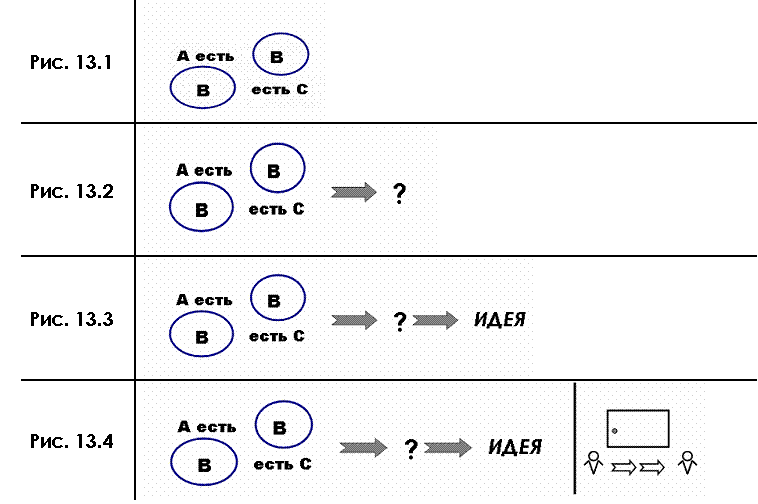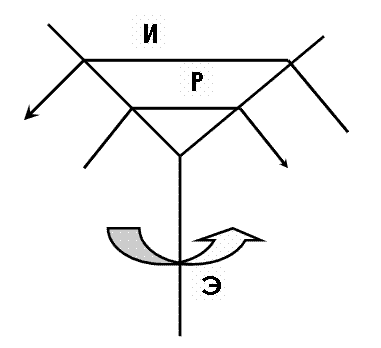Введение в философию. Лекция 13. Радикальный идеализм – 2.
19 февраля 2009 г.
В.М. – Владимир Мацкевич
Т.В. – Татьяна Водолажская
А.Е. – Андрей Егоров
С.М. – Светлана Мацкевич
Д.Г. – Дмитрий Галиновский
А.К. – Андрей Комаровский
А.Е. – Алексей Бобриков
В.М. – Сегодня я продолжу тему, которую начал в прошлый раз (я её, кстати, так в тезисах и обозвал – «Радикальный идеализм – 2»), и буду разбираться дальше с тем, что происходит в работе с идеями и в работе, которая разворачивается в идеальном плане. И содержание того, что я буду сегодня обсуждать, располагается между двумя процессами, которые я в прошлый раз назвал идеацией и онтологизацией.
В одном тексте – не помню уже, где он локализовался в «Вызывающем молчании» – мне пришлось в таком памфлетном залоге обсуждать вопрос онтологизации таким образом: а что делает то, что есть, то, что прошло процедуру онтологизации и признано существующим, деятельностно представленным каким-то образом? Собственно, оно заставляет с собой определённым образом считаться. И фокус с идеями – он как раз и заключается в том, что любая высказанная идея – представленная, предложенная, независимо от того, в какой форме она сформулирована, в какой степени она развита – она допускает к себе два крайних отношения: с одной стороны, мы относимся к этой идее как к чему-то, что существует понарошку, или, с другой стороны, как к тому, что признано существующим, то есть то, для чего определён её онтологический статус. И дальнейшая судьба идеи с признанным онтологическим статусом выходит пока за рамки того, что я буду сегодня обсуждать, а предмет сегодняшнего обсуждения располагается между тем, когда идея уже схвачена, и разворачивается или простирается до того, когда этой идее придан некий онтологический статус.
И начинать обсуждение процессов и действий, процедур и операций, которые располагаются между идеацией и онтологизацией, необходимо с процедуры полагания. Когда в коммуникации зафиксирована разница или расхождение между тем, как названные одним именем субъект и предикат в разных суждениях…
С.М. – Владимир Владимирович, а можно погромче?
В.М. – Вы лучше садитесь поближе, а то у меня сегодня с голосом не очень.
Итак, в коммуникации, в философском разговоре или рассуждении фиксируется рассогласование, расхождение в употреблении категории или термина в качестве субъекта или предиката в разных суждениях, и рожденный из этого рассогласования вопрос получает некий ответ. И этот ответ мы называли идеей. И вот теперь дальнейший процесс разворачивается тогда, когда мы кладём эту идею в пространство работы – туда, где с ним можно работать. Это пространство или это место мы уже на протяжении многих лекции называем идеальным планом (рис. 1.1).
Рис. 1.1
Таким образом, изъятие или извлечение идеи из коммуникации, философского разговора или рассуждения, и перенос её в рабочее пространство идеального плана не зря достаточно часто и совершенно справедливо называется полаганием. То есть мы кладём, размещаем идею в этом самом идеальном плане, и для того, чтобы эту процедуру полагания выполнить основательно и правильно, мы должны разместить идею в идеальном плане не лишь бы где, а там, где эта идея уместна, где она находит своё место. И для этого идеальный план уже должен быть каким-то образом пространственно структурирован, то есть идеальный план предполагает некоторую систему мест, куда можно эту самую идею класть. И вот то, что задаёт эту систему мест, в самом общем виде можно было бы называть топикой.
Топика – от слова «топ», «топос», по-гречески – «место», если с английского – получается тема. То есть мы должны определённым образом разместить идею в идеальном плане и тематизировать её с тем, чтобы затем можно было проводить с ней какие-то операции, каким-то образом оперировать с этой идеей, выполняя с нею работу. И топику – как самое общее название той системы мест, которую мы находим или обнаруживаем в идеальном плане – можно было бы считать началом рабочего процесса с идеями. Но топика задаётся очень по-разному. И вот разные виды топик или организаций пространства и будут составлять главное содержание сегодняшнего обсуждения. Но мне придётся расширить представление о топике, потому что разного рода организация пространства идеального плана предполагает совершенно разные виды работ с идеями или способы оперирования, которые могут применяться. Соответственно, в методологии мы привыкли, оперируя идеями, называть топикой некую систему мест, заданную схематизацией и схемами. И схемы, собственно, и составляют основной набор тех средств, с помощью которых мы организуем пространство. Я о них сегодня немного поговорю, надеюсь, даже тем, кто не знаком с методологией, то, что я буду говорить про эти схемы, будет более-менее понятно.
А вот до того, как мы доберёмся до методологических схем, организующих пространство идеального плана и рабочее пространство, нужно будет затронуть ещё несколько моментов, связанных с топикой, потому что поскольку идея полагается в идеальный план, будучи почерпнутой или изъятой из коммуникации, то, помещаясь в идеальный план, она несёт на себе набор всего того, что связано с этой идей в самой коммуникации. А в самой коммуникации – поскольку язык является одним из главных компонентов коммуникации – я бы предложил рассматривать грамматику языка как прото-топику, как то, что позволяет размещать идеи в некотором пространстве в идеальном плане. То есть, помещая, или полагая идею в идеальный план, первое, что мы делаем (ещё до всяких схем) – мы полагаем идею вместе с пространством, которое сопутствует, или принадлежит этой идее в силу её динамики, вот этого перехода из коммуникации в идеальный план.
Говоря это, я сам задумался, насколько это понятно.
Значит, я говорю буквально следующее: процедура полагания обычно воспринимается как полагание куда-то, в какое-то пространство чего-то там (рис. 2.1).
Рис. 2.1
Ну вот, как это говорится в математике, где очень часто прибегают к процедурам полагания: берём точку, или берём прямую, или берём фигуру. И эту фигуру мы сразу куда-то размещаем. Где мы рисуем прямую, например? – Понятно, что как минимум в двумерном пространстве. Соответственно, когда мы говорим: «прямая» – уже в самом говорении содержится некоторое представление о том пространстве, в котором эта прямая схватывается, мыслится, понимается, и это же пространство мы автоматически переносим туда (в то пространство, в которое «полагается»). Поэтому, чтобы описать процедуру полагания целиком и полностью, нужно достроить полагание «ниоткуда» полаганием «откуда-то» (рис. 2.2).
Рис. 2.2
И вот это пространство, откуда мы полагаем идеи в идеальный план, мы можем обозначить как пространство коммуникации и пространство языка.
Коммуникация разворачивается в речи и языке, и грамматика языка уже имплицитно содержит в себе необходимые характеристики пространства, которые – хотим мы этого или не хотим – мы переносим в идеальный план ещё до того, как мы начали строить там схемы.
Так понятнее, что я хочу сказать?
И тогда, мы должны рассмотреть грамматику языка с точки зрения пространства, или топики, для того, чтобы понимать, каким образом мы располагаем – или полагаем – идею в идеальном плане.
И язык – естественный язык, в котором разворачивается коммуникация – содержит в себе очень сложную структуру пространства, несколько разных, не совпадающих между собой систем мест. Вот, скажем, я бы не углублялся сейчас в какие-то собственно языковые вещи, а обозначил бы только главные, принципиальные характеристики топики языка. С одной стороны, мы можем взять топику времён. И сразу же, употребляя какое-то имя, понятие, термин в языке, мы употребляем его в некотором оформлении глагольных времён, располагая идею – ещё до помещения её в идеальный план – в будущем, прошлом или настоящем. Или, если в языке более сложная система времён – то, соответственно, в каком-то из этих времён. И тогда это автоматически переносится на структуру мест идеального плана. В идеальном плане это уже присутствует.
Не менее важным элементом грамматики языка является наклонение. Когда мы употребляем слово, термин, понятие в языке – то мы употребляем их в определённом наклонении: сослагательном, изъявительном или повелительном. И фактически, можно было бы сказать, что система наклонений, заданная в том или ином естественном языке – она и предполагает разворачивание идеи в рабочем плане от сослагательного наклонения к изъявительному или повелительному. Собственно, онтологический статус та или иная идея обретает в изъявительном и повелительном наклонении, тогда как в сослагательном наклонении она употребляется с непрояснённым, непрописанным онтологическим статусом – «как будто бы». И поэтому неслучайно рафинированные языки философствования, в частности, методологический язык, переполнены словами, обозначающими сослагательность тех идей, понятий и категорий, которые в нём употребляются, и это звучит даже вот в этих языковых конструкциях. И вот это слово-паразит, – «как бы» – которое из методологического языка перекочевало и стало достаточно распространённым и в бытовом языке, вплоть до «олбанского» – оно как раз характеризует употребляемые в языке идеи, или идеи, о которых ведётся философский разговор, размышление, рассуждение в сослагательном наклонении, когда рефлексивный участник коммуникации не торопится придавать этой идее уже определённый онтологический статус.
Собственно, я бы сказал, что эти два элемента грамматики – времена и наклонения – и составляют две главные системы мест, или топики, в идеальном плане, которые туда переносятся нерефлексивно, часто неосознанно. Мы сразу же располагаем в неком рабочем пространстве некую идею в соответствии со структурой того языка, на котором мы об этом говорим.
Ещё один компонент (я не уверен, что он может быть поставлен в ряд с этими двумя элементами – то есть с временами и наклонениями) – это модальность. Модальность употребления, в которой схватываются в языке те или иные понятия и идеи. Модальность в разных языках может задаваться по-разному – это не только, скажем, формы модальных глаголов, в которых схватываются возможность, действительность, необходимость каких-то вещей, но и, например, характерная для немецкого языка грамматическая категория залога: пассивный залог, активный залог и т.д. В других языках, где залог не столь ярко выражен грамматически, или не представлен непосредственно в каких-то языковых формах, это может схватываться оправданностью, или возможностью для категорий выступать в каких-то суждениях в качестве подлежащего, или только дополнения в каких-то других падежах. Скажем, если немцы легко употребляют выражения типа: «Дом строится», то в русском языке метафоричность таких выражений выражена в гораздо большей степени. Активность (в этом смысле) деятеля или какого-то объекта в качестве подлежащего принимается языком либо безусловно, либо она принимается с какими-то языковыми оговорками и допущениями. Отсюда – такого рода пространственные характеристики языка, или пространства, которые упакованы в сам язык, они и порождают разницу между языками, пригодными или непригодными для работы с идеями.
Я сейчас, в этой лекции, не буду обсуждать какие-то другие аспекты тех или иных языков, с их организацией, выходящей за пределы топики, но вот эту вещь мы должны достаточно чётко и однозначно понимать: уже само по себе употребление в языке какой-то идеи, понятия или категории тащит за собой ту или иную организацию пространства. Но, будучи притащенный в идеальный план из языка, организация пространства может оказываться неотрефлектированной и неосознанной. Поэтому без переведения в схемы, без задания определённой схемы, эта топика весьма и весьма условна. И эта условность на самом деле очень важна. То есть, в чём состоит условность топики без схемы?
Очень важно в этом смысле понимать пространство не только как некий набор мест, не совпадающих друг с другом, для которого выполняется одно только условие – различие этих мест («здесь вам не там»), но и понимать, что во многих случаях эти топы, или разные места, друг с другом как-то соотнесены.
Вот, скажем, классическое представление трехмерного пространства предполагает, что существуют в пространстве некие измерения, которые выстроены относительно друг друга ортогонально. Горизонтальные измерения, вертикальные измерения; и можно двигаться независимо. В чём смысл ортогональности? – В том, что можно двигаться независимо по одному из измерений и можно двигаться одновременно по двум измерениям. Тогда как простейшая – наиболее сильная – топика предполагает, что мы вообще никак не связываем, не организуем разные места между собой. Они просто берутся как разные, и говорится: «Это – здесь, а это – там» (рис. 3).
Рис. 3
Но эта сильная сторона топики (при которой мы точно разделяем места как никак не связанные, не организованные между собой) есть чисто рефлексивное отношение к топике. По большому счёту, в естественном языке все места, так или иначе, уже упакованы в структуру языка. И сами места, и отношения между ними. Только через схему, через специальную организацию мест между собой мы можем разрушать этот естественный строй языка и естественным образом навязываемую топику. Наиболее ярко это проявляется (как самый простой и частоупотребимый пример) по отношению к системе времён. В языке – обыденном языке – так или иначе, явочным порядком система мест во времени, или система мест времён, задана некой последовательностью: прошлое, настоящее и будущее (рис. 4.1).
Рис. 4.1
И поэтому время, или представление о времени навязывается языком как некая односторонняя последовательность, чередование времён. Хотя, при всём при том, язык сам по себе допускает и другие структуры времени. Например, закольцовывание времени: когда мы имеем не прямую последовательность, а некое цикличное время (рис. 4.2).
Рис. 4.2
Специальная методологическая схема, задающая топику времени, несколько иная: когда мы задаём все три временные категории, соприкасающиеся друг с другом, выстроенные не последовательно, а в некую структуру, по которой можно двигаться как в одном, так и в другом направлении (рис. 4.3).
Рис. 4.3
При этом каждое из времён находится в контакте, или граничит с другим временем. Благодаря такой схематизации, или специальному, продуманному, отрефлектированному устройству пространства идеального плана, мы получаем – с одной стороны – либо дополнительные возможности, либо дополнительные ограничения. А с другой стороны, располагая топику идеального плана между процессами идеации и онтологизации, имело бы смысл рассмотреть онтологический статус того, что получается, если мы кладём идею в один из этих топов.
И полагание идеи в одно из этих мест навязывает, или предопределяет тот онтологический статус, который мы этой идее придаём. По большому счету, в чистом виде сказать, что «нечто есть чем-то», мы можем только тогда, когда кладём идею в топ или пространство «настоящего» (рис. 5.1).
Рис. 5.1
Потому что по отношению к другим топам в этой схеме мы говорим с размытым, неопределенным онтологическим статусом: «Нечто было», или «Нечто будет», или «Нечто может быть». Соответственно: «может быть» – сразу же снимает определённость онтологического статуса некой идеи и предполагает её «понарошечность», «как бы». То, что может быть – это ещё «бабка надвое сказала»: будет/не будет и т.д. То, что есть – то и есть, с этим надо считаться. А насколько то, что было, есть?
По отношению к большинству проектов, программ, идеологий эта неопределённость онтологического статуса по-разному влияет на организацию деятельности, поведения, поступков людей. Скажем, если мы признаем БНР в прошлом, и затем неконтролируемо говорим: «Раз это было, то это и есть» – то, соответственно, это определяет некоторым образом наши поступки, поведение, и сегодня, и в будущем. Мы критично относимся к этому и говорим, что то, что помещено в пространстве прошлого, имеет совершенно иной онтологический статус, чем то, что размещается в пространстве настоящего, и необязательно присутствует одновременно в обоих пространствах. Но означает ли это одновременно что то, что было в прошлом, но на сегодняшний день отсутствует, не будет в будущем? Возможен ли процесс переноса положенной, или размещённой в идеальном плане, в определенной топике, идеи из одного пространства в другое без того, чтобы с этой идеей что-то сделалось (рис. 5.2)?
Рис. 5.2
Выясняется, что, простой перенос, или простое перемещение в идеальном плане идеи из одного топа в другой, предполагает некую работу с этой идей, то есть её нужно как-то видоизменить. Собственно, мысль, мышление, разворачиваемые в идеальном плане, – это и есть такое оперирование с идеями, которое их каким-то образом видоизменяет, что делает возможным перемещение идеи из одного топа в другой.
Это первый кусочек, который мне хотелось бы обозначить и зафиксировать. То, что я буду обсуждать дальше, требует внимательного отношения именно к этой вещи: в идеальном плане, когда мы полагаем туда идею, мы затем в процессе работы перемещаем её в какое-то иное место, и это перемещение становится возможным только после того, когда мы каким-то образом поменяли, видоизменили саму идею, которую переносим. И как бы мы не сохраняли тождественность этой идеи самой себе, перенос возможен только тогда, когда эта идея становится несколько иной (рис. 1.2).
Рис. 1.2
В противном случае, её просто нельзя перенести из одного места пространства идеального плана в другое место пространства идеального плана.
Понятен ли этот посыл и та проблематика, которая возникает при такого рода постановке вопроса?
Т.В. – Может Вы этого касаться не собирались, но Вы говорили, что топика, по которой двигается в идеальном плане эта идея, или двигают идею, с одной стороны, переносится изначально грамматикой, но это ведь не единственная топика, то есть возможна некая иная. А создание самой топики? Она не предопределена там? Или предопределена?
В.М. – Нет, конечно, не предопределена. Она определена некоторым образом языком…
Т.В. – Отчасти.
В.М. – … которым мы пользуемся в коммуникации. Эта опредёленность языком заставляет нас сразу помещать идею в идеальном плане в некоторое место, буквально со всем тем «барахлом», которое возникает в речи, языке.
Т.В. – Тогда дальнейшее движение связано либо с перемещением в той топике, которая предопределена, либо с созданием ещё некоторой топики и движением там. Я вот про это спрашиваю.
В.М. – Да, я говорил уже про это, что неотрефлектированная топика языка, заданная теми или иными грамматическими формами, не запускает работы как таковой. Поэтому, для того, чтобы мы могли работать с идеями в идеальном плане, мы обязаны отрефлектировать топику, даже если мы оставляем ту топику, которую «притащили» с языком. А ещё лучше – построить некоторую схему, специально задать отрефлектированную, осознанную топику идеального плана; и тогда рабочий процесс становится возможным. Тогда мы сознательно двигаем идею в идеальном плане перенося, передвигая её с одного места в другое место, соблюдая, в то же время, требования этих мест.
С.М. – А схема не есть топика.
В.М. – Нет, я ж и говорю про это: схема и задаёт топику, разные схемы задают разную топику. Вот есть несколько базовых методологических схем, которые по-разному организуют топику идеального плана. Скажем, классическая платоническая схема, при которой мы делим мир на мир идей и на мир вещей (рис. 6.1).
Рис. 6.1
И на этой топике построен целый ряд уже каких-то конкретных онтологических схем. Например, схема воспроизводства деятельности и трансляции культуры, когда трансляция разворачивается в одном месте, или в одной части пространства, а реализация вместе с ситуацией есть способ перемещения идеи из одного места топического в другое (рис. 6.2). Это – одна схема.
Рис. 6.2
Вторую схему я уже как бы нарисовал – одну из базовых топических схем, которая используется в методологии, – это схема времён. На ней задаётся, скажем, процесс не реализации уже, а развития (рис. 6.3).
Рис. 6.3
Следующая топика, или схематизация, задающая топику пространства, – это рамочно-ядерная конструкция, когда у нас идеи могут помещаться либо в рамки, либо в ядра, и это задаёт какую-то совершенно другую конструкцию (рис. 6.4).
Рис. 6.4
Точно так же мы можем вообще брать какие-то окказиональные рабочие схемы, случайные в этом смысле, не обязательно входящие в базовые схемы.
Т.В. – А всякие предметные знания или теории, получается, тоже располагают своими схемами?
В.М. – Так или иначе, конечно, да. Например, своеобразную топику задаёт линнеевская классификация в биологии. Точно так же иногда соорганизация самих научных предметов – метапредметов, локальных предметов и т.д. – тоже задаёт определённую топику организации идеального плана. Ну вот, скажем, в диамате это специально фиксировалось как форма движения материи, и тогда получается некая такая усечённая, редуцированная эйлеровская схема, когда одни предметы входят частями в другие предметы, и мы можем фиксировать, по крайней мере, два типа мест: внутри и вовне чего-то (рис. 6.5).
Рис. 6.5
Точно так же могут задаваться и другие какие-то пространственные отношения (или сопряжённые с пространственными отношениями). Ну, скажем, кроме собственно пространственных измерений «ближе–дальше», «выше–ниже» и т.д., могут быть ещё направления движения – «внутрь–вовне», и, соответственно, в зависимости от мерности того или иного пространства, ещё и «внутри» и «вовне» отдельно.
Здесь, опять же, очень важны ещё какие-то модальные вещи. Но они как раз имеют вид скорее чистой топики, когда места вообще никак не связаны друг с другом. Тогда мы просто говорим: «Вот есть место для этого, для чего-то другого, для третьего, и мы просто располагаем идеи, понятия, категории в этих местах» – и тогда мы, по крайней мере, можем задавать порядок и различие между ними. Но тогда всякий раз возникают специфические содержательные проблемы при перемещении идей из одного места в другое, потому что при каких-то более определённых схемах, так или иначе организующих пространство, там существуют правила переноса, и мы можем действовать по этим правилам (рис. 7.1).
Рис. 7.1
В первоначальной, самой мощной топической схеме, эти правила не оговорены, их приходится либо изобретать по ходу, либо на отсутствии этих правил паразитируют всякого рода представления об интуиции, аналогиях и прочих паралогических, или парамыслительных, процедурах.
Ну и классическая схема – методологическая организация пространства. Это – ортогональная оргдеятельностная схема, при которой, соответственно, тоже оговариваются способы переброски содержания из одной ортогонали в другую ортогональ (рис. 7.2).
Рис. 7.2
Понятно с этим, да?
Теперь нам необходимо затронуть вопрос о том, а каким образом мы оперируем с идеями, видоизменяя их с тем, чтобы стал возможен перенос-перемещение идей из одного топа в другой. И здесь мы имеем целый набор разных процедур, начиная, собственно, с грамматических процедур, которые заданы парадигматикой и синтагматикой, и, собственно, в грамматике, в лингвистике это достаточно хорошо отработанная тема. Т.е. мы знаем парадигму для разных частей речи – каким образом мы перемещаем, например, мысль, идею, выраженную в сослагательном наклонении, в изъявительное и повелительное наклонение. Но дело в том, что грамматические процедуры, грамматические формы оторваны от собственно нашего представления о том, как устроены сами по себе идеи, в которых есть некая знаковая форма и объективное содержание. И грамматические процедуры, фактически, относятся только к знаковой форме (рис. 8.1).
Рис. 8.1
Поэтому мы можем выразить в языке разные понятия в разном наклонении, в разных временах, задать их в разных модальностях или ещё в чём-нибудь – но это не есть мысль, это есть просто-напросто оперирование исключительно знаковыми формами, для которых, собственно, язык вполне пригоден. Тогда как для речи и языка это вполне допустимо и пригодно, для мышления же нет, потому что аналогичные грамматическим парадигме и синтагме правила, для мышления необходимо схватывать ещё и объектное, или объективное, содержание, приписываемое этим знаковым формам.
Т.В. – У идеи же нет содержания. Она же бессодержательна.
В.М. – Бессодержательны идеи в том месте, в котором они располагаются от коммуникации до идеации. Когда они возникают в коммуникации, то они бессодержательны. После того, как они размещаются в идеальном плане и с ними осуществляется определённая работа, они обрастают содержанием, или на них наращивается содержание. И содержание это наращивается как раз за счёт удержания при знаковой форме вот этого объектного содержания. И этим отличается… Ну, просто нельзя мыслить, оставаясь исключительно в рамках грамматики. С одной стороны, потому что все грамматические формы так или иначе предзаданы и, не будучи разобранными, деструктурированными и переведёнными в какие-то другие формы топики – в схемы – они закрывают возможность для мышления, потому что, грубо говоря, они навязывают, диктуют то, что можно сделать с идеями, выраженными в знаковой форме. Это – с одной стороны. А с другой стороны, они, будучи оторванными от объективного содержания, допускают гораздо больше возможностей, чем тогда, когда мы берём идею, связанную с объективным содержанием.
Есть какие-то воздыхания, но я тогда, не дожидаясь вопросов – если они будут, то вы их сразу говорите – буду двигаться дальше.
Т.В. – А, вот про это – про обрастание содержанием – мы сейчас не про это говорим, да? Передвижение в топике – это не то же самое, что и обрастание содержанием. Ну, непонятно, где оно обросло и к чему должно привязываться передвижение?
В.М. – Ну, во-первых, содержание появляется уже тогда, когда возникает сомнение об уместности или неуместности идеи в том топе, в который мы её полагаем.
Собственно говоря, разбирая эти ситуации, я пока затрагивал только процедуру полагания, и всю топику рисовал под эту процедуру. Теперь, когда мы тем или иным образом всё-таки разместили идею в идеальном плане, в каком-то месте (потому что если идеальный план структурирован, то в нём нет «безместных» мест, т.е. там все места тогда только такие, которые заданы этой топикой, и значит, всё, что мы туда полагаем, оно сразу находит себе место) – но как только мы положили её в какое-то место, сразу же возникает вопрос об уместности: можно ли располагать эту идею в том или ином месте? И вот ровно в этом вопросе любая идея становится уже предельно содержательной, потому что ответить на этот вопрос – «уместно или не уместно положена идея здесь (именно здесь, где она положена)?» – уже предполагает наличие содержания, потому что: что ещё может воспрепятствовать полаганию идеи в это место? Но если любое место допускает полагание в себя любой идеи, значит, либо сами места ничего не значат, либо идеи ничего не значат.
Ну, опять же, на этом построены всякого рода юмор, ирония и т.д.: «Летели по небу два крокодила». Почему крокодилы, собственно, не могут летать? Идея летящего крокодила вполне может возникнуть и не подвергаться никакой критике до тех пор, пока мы не обращаемся к объективному содержанию крокодила. И только это объективное содержание делает осмысленным и разумным вопрос об уместности или неуместности нахождения идеи в том или ином топе идеального плана. Вот скажем: «Майор Пронин сидел в холодной комнате, закутавшись в плед, в форточку дуло. Майор Пронин нашёл в себе силы подняться и закрыть форточку. Дуло исчезло». Грамматически – всё как бы нормально, всё правильно. Собственно, ирония и юмор возникают только тогда, когда мы представляем себе объектно-объективное содержание вот этого имени-термина – «дуло». В одном случае мы употребили глагол, глагольную форму, и употребили её грамматически правильно. В другом случае мы «дуло» берём как существительное, может быть, не совсем корректно в плане понятийном (в армии учат, что у автомата нет дула, а есть ствол), но, тем не менее, грамматически это всё допустимо. А вот объективное содержание сопротивляется этим вещам.
Тогда – если пока нет замечаний, вопросов, возражений – тогда какими средствами мы…
А.Е. – А откуда берётся объективное содержание?
Т.В. – Понимаешь, оно как бы берётся ниоткуда и проверяется на уместность в топике.
В.М. – Вот, наверно, почти так. Объективное содержание появляется в сомнении относительно уместности или неуместности идеи в том или ином месте идеального плана.
А.Е. – А по сути это что такое… Тогда оно появляется и без сомнения.
Т.В. – Может, и без сомнения появляться…
А.Е. – Т.е., когда мы размещаем что-то в некой сетке грамматических категорий, уже само по себе – если предполагать, что изначально структура идеального плана предполагает хотя бы в минимуме какую-то сетку грамматических категорий – то размещение в эту сетку любой сущности – идеи, – уже связано с обрастанием неким содержанием, автоматически. Помещение нового слова в язык, – неологизм, который вводится, – он попадает в сетку языка, обрастает содержанием по отношению к другим словам, значениям этого языка.
В.М. – В принципе, все предшествующие философы рассуждали примерно так, как ты.
А.Е. – Ну, да.
В.М. – И Ансельм Кентерберийский, придумавший онтологическое доказательство бытия Бога, рассуждал примерно таким же образом. А через тысячу лет после Ансельма Кентерберийского Витгенштейн фактически подводит под это дело философскую базу, говоря о том, что мир повторяет структуру языка. Но мы не можем повестись на такого рода дешёвые трюки. И в этом смысле я говорю следующее: «То, что позволено в языке, может быть не позволено в мышлении». И в этом я восстанавливаю несколько рамок сегодняшнего обсуждения. Первая рамка – это то, что мы обсуждаем, – ничто иное, как мышление (рис.9.1).
Рис. 9.1
И поэтому всё, что мы берём, кладём, разбираем и т.д., мы разбираем как объект мысли, мышления, мыслительного отношения и т.д. Поэтому много раз лингвисты показывали насколько язык сам по себе… Ну, наверное, после грамматики Пор-Рояля, в общем, никто особо не пытался отождествить язык с мышлением. Даже говоря о языковом мышлении, мы всё равно разотождествляем эти вещи. Поэтому – «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка». Использованы слова грамматически правильно, при этом ни одно из слов не имеет ни смысла, ни значения. А тем не менее, после произнесения этой щербовской фразы, возникает некий вполне определённый образ. Или есть ещё у Петрушевской целое стихотворение-рассказик: «Сяпала Калуша с Калушатами по напушке. И увазила Бутявку, и волит: «Калушата! Калушаточки!»»…
А.Е. – Ещё Льюис Кэрролл с «Бармаглотом».
В.М. – Ну, да. Но там хоть такой перевод, что появляются хоть какие-то значимые слова. А вот у Щербы и у Петрушевской вообще нет значимых слов.
Тем не менее, сама по себе структура грамматики задаёт некоторые такие вещи. И тогда это иллюстрирует только одну вещь, одну важную для нас штуку: что оперирование со знаковой формой достаточно автономно само по себе от оперирования со всем этим комплексом в целом (рис. 8.2).
Рис. 8.2
Поскольку «глокая куздра» наверняка может «будлануть бокра» – до тех пор, пока мы не знаем, насколько «будлание» приятно и симпатично «бокру». Но как только мы начинаем об этом задумываться, мы начинаем спорить с тем, что вот «глокая куздра» – она точно «бокра» «будлануть» не может. Если бы она была ещё «не глокая», то ещё куда ни шло. Ну и т.д.
Вот в этом смысле объективное содержание накладывает определённые ограничения, которые в языке и грамматике намеренно или ненамеренно, но сняты. И эти ограничения мы начинаем осмысливать только тогда, когда задаёмся вопросом об уместности идеи в том месте, куда мы её кладём в идеальном плане. Положили, скажем, прямую на доску и начинаем её обсуждать. А скажи, пожалуйста, а прямая длинная?
А.Е. – Это бессмысленно спрашивать.
В.М. – Да, бессмысленно, потому что если мы кладём её в пространство математическое по понятию, то прямая – бесконечна. Длинной её рисовать или недлинной – это абсолютно никакого значения не имеет. Но также и многие какие-то такие вещи. Поэтому обсуждение длины прямой – неуместно (при определённом полагании). Другое дело, что в таком случае – если нас начинает интересовать длина – мы должны эту прямую, которую мы уже положили, каким-то образом видоизменить. Например, вполне допустимо видоизменить прямую до отрезка прямой. И тогда можно обсуждать длину и многие другие вещи, которые с этим связаны.
Т.В. – Из того, что Вы про прямую рассказали, получается, что движение происходит только в имеющемся наборе знаков с объективным содержанием, связанных между собой. И всё. Про прямую мы не можем спросить про длину, потому что это не соответствует, поэтому мы должны перейти к отрезку, объективное содержание которого соответствует тому, чтобы оно могло быть употреблено. И тогда эти связи между знаком и означаемым – они неразрывны, и мы двигаемся только в них.
В.М. – Нет, они разрывны. Почему неразрывны? Но мы их всякий раз оговариваем. И я-то вот говорю более, как мне кажется, определённую вещь и более жёсткую. Я говорю: «Полагая что-то в идеальный план, размещая что-то в идеальном плане, мы всякий раз можем положить это нечто только в то место, где это нечто уместно». Скажем, берём прямую. И мы можем нарисовать на доске знак прямой (рис. 10).
Рис. 10
Вот это является знаком прямой? Да? Но это не отрезок прямой, а прямая. Тогда: где может располагаться прямая? Она может располагаться только в математическом и геометрическом пространстве. И тогда: вот это (рис.10) – знак. Знак чего? В том числе и того, что вот это место (в котором нарисована прямая?) является математическим пространством, или плоскостью. Но точно так же, как математическое пространство, или плоскость как частный случай математического пространства, – бесконечны, так и прямая бесконечна. Как только мы начинаем заговаривать о конечности, мы должны и пространство само по себе – или место– переменить. И в этом смысле, идея и место, куда мы её располагаем – они должны каким-то образом быть приведены в соответствие друг с другом. Либо идея не влезает в то пространство и в то место, куда мы её кладём, либо место не терпит размещения в себе той или иной идеи. И отсюда, наталкиваясь на эти вещи, мы впервые, по большому счёту, сталкиваемся с содержанием. И это сразу же делает мышление неабстрактным.
Т.В. – Т.е. мы сталкиваемся, мы ограничены этим содержанием?
В.М. – Ещё раз. Мы ограничены топикой идеального плана, в которой мы размещаем идею. Сама идея содержания возникает только тогда в мышлении, когда либо место, куда мы располагаем идею, сопротивляется, либо идея – не влезает. До этого содержание (если можно говорить про содержание без этого) – точно не мыслительное содержание, оно какое-то иное – паралогическое.
Поэтому я в тезисах обозначал эту подтему – каких-то паралогических форм, и я думал, что говорить о них применительно к мышлению, в общем, не стоит, потому что мы рамку мышления всё-таки уже кладём, и мы в ней разговариваем. Но паралогические формы – они, в общем, могут быть, скажем, когда какая-нибудь чушь появляется не в идеальном плане, а в сознании людей и начинает даже мотивировать людей, руководить ими не через логические, не через мыслительные процедуры, а через какие-то иные, – например, через поддержание авторитетом. Почему «шебуршанчики» или «глокая куздра» существуют? – Потому что я сказал. И, в общем, на некоторых людей это действует. Но тут нет никакого мышления, никакой логики – люди начинают исходить из этих вещей без мышления, вообще без работы в идеальном плане.
Вот я сегодня в ЖЖ выставил забавный отрывочек из разговора Лукашенко с Солана, в котором Лукашенко предложил своему «другу закадычному» Солана обойтись при выстраивании белорусско-европейских отношений без посредников. Грамматически, несмотря на «виртуозное» владение Лукашенко языком, предложение как бы вполне допустимое. И если не мыслить об этом, то оно тоже допустимое, и оно может стать руководством для Мартынова, или ещё для кого-нибудь. В самом деле, на хрена посредники? Но, как только мы начинаем думать про это, начинает втаскиваться содержание: что такое «посредник» в данном случае? А вообще, чего делает Лукашенко в отношениях с Европой? Это что, два самостоятельных договаривающихся субъекта? Нет. Потому что Солана не тождественен Европе, а Лукашенко не тождественен Беларуси. Оказывается, как только мы чуть-чуть, минимально подумаем об этих вещах, об уместности такого заявления, мы поймём сразу же, что Лукашенко и есть посредник. Лукашенко в качестве избранного главы государства представляет Беларусь в её отношениях с Европой, являясь посредником. Додумавшись до этого, мы сразу понимаем, насколько плохо он выполняет эту функцию – вместо того, чтобы нормализовывать отношения, он сорит Беларусь с Европой. Но это возникает только тогда, когда мы думаем о том, что есть «посредник», и где мы его размещаем вообще – в каком пространстве, в какой топике мы размещаем эти вещи. Вот если бы Лукашенко с Солана были бы «голубыми» и решили устроить вообще собой определённые отношения, вот там точно не надо были бы никаких посредников, они бы им даже мешали.
Ну, так вот, говоря про это, понимаете, какая вещь: предшествующие философы думали, что содержание не есть инструмент мышления, а что содержание существует само по себе объективно. Я, – ну и не только я, на самом деле, и в методологии, – мы говорим об объективном содержании, а не о том, что содержание объективно. И тогда мы говорим, что содержание не существует безусловно, оно обусловлено и появляется в мышлении при условии радикального сомнения в уместности или неуместности расположения идеи в той или иной точке, месте пространства.
Так, это была одна рамка. Вторая рамка, в которой мы обсуждаем все эти вещи – это рамка пространства, или места, между идеацией и онтологизацией (рис. 9.2).
Рис. 9.2
Поэтому мы говорим, что содержание не совпадает с объективно-онтологическим статусом тех или иных идей или понятий. Содержание не обязательно объективно, и поэтому наличие содержания у идей не предполагает однозначно объективного статуса её существования. Вот чего Ансельм Кентерберийский не знал, так именно этого, поэтому онтологическое доказательство бытия Бога именно на этом и построено: раз в языке есть слово «бог», оно должно что-то означать; так вот то, что оно обозначает, – это и есть Бог; а, стало быть, Он есть. Ну, как бы вот такого рода трюки.
И философы, которые в меньшей степени… Помните, я вам говорил о сложности и проблематичности отношений философии с мышлением? Философы, как правило, пытаются рассматривать мышление просто как небольшой довесок к жизни, к чему-то там ещё и т.д. Поэтому они тянут всякий раз в мышление какие-то штуки, которые черпают из своего представления о жизни, о существовании, о мире и т.д. Поэтому предполагается, что содержание оперирования, скажем, вещами, или словами, в языке – без мышления – является более общим, более фундаментальным, чем в мышлении и перетягивается из жизни в мышление. Это не так. Поэтому, когда мы видим стул, ходим вокруг него кругами или скачем на нём как на лошадке и прочее, и прочее, не мысля об этом никак – то такого рода философствованием предполагается, что мыслить мы обязаны со всем тем, что делается со стулом людьми без мышления. Это не так. Поэтому содержание в мышлении, в мысли, оно очень странным образом связано с содержанием каких-то немыслительных сторон существования человека.
А.Е. – Но связано?
В.М. – Ну, как-то это связано. Но эту связку мы должны чётко понимать. Я вот её проговариваю, но она, видимо, не очень слышится и схватывается, потому что для меня и для той философии, которую я разворачиваю перед вами, это принципиально. Содержание не привносится в идеальный план нерефлексивно, или одновременно с полаганием идей в идеальный план. Содержание возникает только при радикальном – или нерадикальном, но – сомнении об уместности этой идеи в этом месте или о сопротивлении этого места полаганию в него идеи.
Т.В. – Это понятно, что оно там возникает. Просто есть момент: непонятно, откуда оно там берётся. Ну, в смысле…
А.Е. – Оно порождается мышлением, насколько я понял.
Т.В. – Т.е. и не имеет никакой связи с…
В.М. – Нет, какую-то имеет. Но её вообще надо всякий раз тоже рефлектировать, осознавать и понимать.
А.Е. – А про уместность ты понимаешь, про «вмещает и не вмещает»?
Т.В. – Ну, я вообще мало понимаю…:)
В.М. – Но понимаешь.
Т.В. – Т.е. я понимаю момент, я бы сказала так, отделения и… Ну, когда это всё вместе – знак с означаемым, и это идёт каким-то комком таким, и только вопрос об уместности предполагает разделение и какое-то отдельное, возможно, оперирование и рассмотрение. Т.е. появляется это в оперировании. А наполнение откуда само берётся? Оно там и раньше было? Или я какие-то дурацкие вопросы задаю?
В.М. – Нет, ты задаёшь нормальные вопросы, но только ты, как мне кажется, не очень слышишь мои ответы на этот счёт.
Т.В. – Мне кажется, что Ваши ответы – они про другое. Ну, ладно. Наверно, не слышу.
В.М. – Вот скажи, пожалуйста, существовали ли классы в социологии…
Т.В. – Нет, Вы мне лучше скажите про «думать Беларусь». Вот такая идея появляется. В какую топику она ложится? По отношению к чему мы должны там чего-то усомневать? И какое содержание у неё появляется?
В.М. – Вот обрати внимание: значит, то, что тогда делалось с предложением этой идеи, оно делалось, скажем так, хитро. Ведь первое, что я сделал в этом месте, – я нарушил грамматику.
Т.В. – Вот. Т.е. я понимаю, что в грамматические конструкции оно как бы не влазит, грамматическую топику оно нарушает…
В.М. – Ну, да. Т.е. – Ленин думает «про Беларусь», там Позняк – «аб Беларуси», а я поставил это дело (воспользовавшись, правда, креативным предложением Стругацких, но тем не менее) в неправильную грамматическую форму, что сразу заставляет думать о топике. Ну, кого-то заставляет, кого-то не заставляет. А как только мы начинаем думать о топике, тут и возникают вопросы уместности-неуместности, и только в этом месте за Беларусью можно цеплять содержание.
Т.В. – Меня интересует дальше: откуда оно берётся – это содержание?
А.Е. – Вот, смотри, там, в общем-то, на этом примере у Стругацких оно и разыгрывается. Типа, «туман» – это как бы… «Думать» – глагол непереходный. И вот на этом…
Т.В. – Они просто переносят в другую топику, и что «думать» – это производственный процесс, и там всё нормально. Ну, в смысле, производят.
В.М. – Нет, производственный процесс… Как только вот так мы понимаем, мы не понимаем про содержание «тумана».
Т.В. – Да, не понимаем.
В.М. – Потому что «туман» тогда совершенно другим содержанием наполняется. Мы можем мыслить то содержание, которое появляется при думанье «тумана»? Вот, насколько оно встречается в жизни? Нигде, кроме «Гадких лебедей» Стругацких я такого не встречал и, думаю, что не встречу никогда. Но я, тем не менее, понимаю про «туман» с его содержанием, которое там вкладывается. И дальше, когда «думать Беларусь» – развивается та же самая фигня. Значит, сначала нарушается топика языка: мы изменяем глагол – в смысле, переходности-непереходности. Возникает сомнение относительно уместности такого словоупотребления. После этого возникает вопрос об онтологическом статусе Беларуси, – и только после этого он возникает. А до этого что было, если оно до этого не возникало? До этого Беларусь бралась немыслительно. И на эту тему есть специальное рассуждение: «мыслить» Беларусь и «плясать» её, «свистеть», и т.д., и т.д. Пока не было независимой Беларуси, был гимн у Беларуси – ну, такая песня про это, и были ещё всякие другие песни: «Молодость моя – Белоруссия» и прочие какие-то штуки. Так вот, содержание начинает возникать, и тогда мы понимаем, что это содержание не задано и не предзадано. После этого следует предложение сыграть в это. Что значит «сыграть»? Значит, есть сослагательное наклонение. И вот надо было «сыграть» – это означает: из сослагательного наклонения перевести в изъявительное (рис.11).
Рис. 11
Грамматически – и так можно сказать. Скажем: «Хорошо бы было бы, если б Беларусь была независимой». Или – перформативно: «Объявляю Беларусь независимой!» В языке это можно сказать, в мышлении необходимо проделать ещё целый ряд всяких других вещей, прежде чем, мы переведём из сослагательного наклонения в изъявительное. И это надо делать. Но где это делается? Это делается, утверждаю я, – забегая вперед, хотя в этом смысле эта лекция похожа на прошлую, когда я не до конца знаю, как и что я скажу, – это и делается в идеальном плане. Отсюда и радикальный идеализм.
Сначала в идеальном плане возникает «план». И реализацией этого плана является коллективная связка философов и практиков, когда они сохраняют свои позиции – ни философ не делает практика младшим философом, ни практик не делает философа своим обслуживающим персоналом – а при сохранении этих позиций, при совместной работе в идеальном плане возникает собственно не идеальный, а просто план, которым руководствуются, совершая ту или иную деятельность (рис. 1.3).
Рис. 1.3
Но это долгое забегание вперёд. Следующая рамка, которая важна для сегодняшнего обсуждения, – рамка оперирования, оперирования тем, что мы положили на доску (рис. 9.3).
Рис. 9.3
Итак, первым шагом – полагание или размещение, т.е. что-то, возникшее в коммуникации, полагается в идеальный план и там оно, будучи положенным в идеальный план, оказывается в каком-то месте. После этого у нас возникает сомнение. И это сомнение конституирует, легитимизирует либо пребывание идеи в том месте, в котором она находится, либо перемещение её в другое место, пока мы не найдем соответствующее. Следующая штука – это перевод для оперирования этими вещами. Оперирование, которое разбивается на две части. С одной стороны – это определение начала и конца перемещения идеи в идеальном плане. Т.е. куда-то мы её поместили, откуда-то потом из какого-то другого места мы её вынем. Вынем из идеального плана, когда этот план будет уже не идеальным, а просто деятельным планом. И следующий пункт – это те процедуры, которые мы с этой идеей при перемещении… (рис. 1.4)
Рис. 1.4
С.М. – Как мы перемещаем.
В.М. – Не просто как мы перемещаем. Это обозначение начала и конца и, соответственно, необходимых промежуточных этапов. А это собственно действия: что мы делаем с этой идеей.
С.М. – Т.е. какие процедуры осуществляем?
В.М. – Какие процедуры, операции, техники мы к этой идее можем применять.
Т.В. – Это же от топики зависит.
В.М. – Ну, конечно, от топики зависит, безусловно. Мы знаем начало и конец. Вот, где идея находится? Например, возьмём любую топику…
Т.В. – Вот про начало ладно, а про конец откуда мы знаем? Мы её переместили в следующее место, а она опять не лезет, перемещаем дальше. Или у нас они заданы?
В.М. – Перемещения заданы… Ну, пусть так – от сослагательного наклонения к изъявительному. Или от идеации к онтологизации. Мы снимаем идею с идеального плана тогда, когда она выражена с ясным, понятным онтологическим статусом – это в изъявительном наклонении. Или в повелительном наклонении: «следует делать» – предписание у нас есть. Вот тогда мы идею с идеального плана снимаем и что-то делаем, руководствуемся этим планом в жизни и деятельности. Поэтому в начале, конечно, у нас всё понятно. У нас не понятно, что происходит, по какой топике движется эта идея, когда она остаётся в идеальном плане. Что ты смотришь так на меня?
Т.В. – Сослагательное, изъявительное наклонение – это и есть вариант топики. В любом случае.
В.М. – Да, это вариант топики.
Т.В. – Так по чём она может в топике двигаться, если в топике всего два места: сослагательное и изъявительное?
В.М. – Во-первых, в топике три наклонения.
Т.В. – Тогда мы знаем, по чём она движется.
В.М. – Я ж это и оговаривал, что идею, возникшую в коммуникации, мы полагаем в идеальный план, протаскивая в процессе этого полагания топику языка в идеальный план. Но топика языка сама по себе – я это оговаривал на схеме «знак-означаемое» – непригодна для дальнейшего оперирования с идеями в идеальном плане. Её нужно заменить на какую-то другую, построить адекватную топику, потому что для перевода идеи из сослагательного наклонения в изъявительное наклонение существует соответствующая парадигма, где сказано, как надо употреблять слова в предложении, чтобы предложение перевести из наклонения сослагательного в наклонение изъявительное. И эта предписанность, шаблонность не позволяет промысливать эту штуку.
Более того, она не чувствительна к объективному содержанию соответствующей идеи. Поэтому Маркс с Лениным наврали про коммунизм в сослагательном наклонении, а некоторые придурки, пользуясь схемой работы Ансельма Кентерберийского, решили, что с коммунизмом можно как с Богом – объявить его в изъявительном наклонении существующим, а после этого ещё и предписать в повелительном наклонении, кому и чего делать и кого замочить, для того чтобы это стало правильным, не заботясь об объективном содержании. А объективным содержанием являлся человек со всеми его потрохами, наклонностями, установками и т.д. Поэтому надо было уничтожить человека. И потом все, кто работает таким образом – все приходят к одному и тому же. Триединая задача: оставляем в стороне электрификацию и коллективизацию, а вот воспитание нового человека – это задача. Сталин формулировал третью задачу обязательно. Ну, и где происходило воспитание нового человека? Сначала это Платон описал – потому что если оставить ребенка родителям, то никакого человека воспитать не удастся. Поэтому нужно либо отобрать детей у родителей и воспитывать за государственный счёт, либо замочить родителей и всё равно воспитывать за государственный счёт. Но, поскольку счёт государственный не резиновый, поэтому можно ещё за компанию и многих детей замочить. И красные кхмеры, которые пользовались этим абсолютно как шаблоном – они мочили всех подряд, включая и детей. Потому что понятно было, что нового человека, нового кхмера из этого барахла, которое заражено всякими частнособственническими делами, не воспитать, и коммунизма не построить. Платон это описал в идеальном плане, а красные кхмеры во главе с Пол Потом и Иенг Сари всё это сделали. Отсюда – проблематика объективного содержания.
Так вот, соответственно, определение начала и конца топики задано вот этой рамкой (на рис. 9.3). Я не стану сейчас настаивать на том, что всё, что я наговорил в прошлой лекции, безусловно правильно. Но, вы должны понимать, что я двигаюсь вот в этом: от идеации к онтлогизации. Собственно онтологизация есть конец всего этого оперирования с идеями. И путь, который проходит идея в этом оперировании, от «как бы» к «тому, что есть железно» или – другая форма – «должно быть». То, что должно быть, является основанием того, что есть. Соответственно, пересматривается, переформулируется целый ряд собственно грамматических категорий. Появляются, например, как инструменты онтологизации, категории становления и пр. Поэтому в оперировании идеями между этим «началом» и «концом» мы должны построить определённую дополнительную систему мест, через которую мы эту идею будем протаскивать. И для этого у нас есть набор средств. Если вернуться к тем трём пунктам, которые я обозначил (на рис. 1.4), то сейчас я занимаюсь наполнение третьего пункта.
Чем мы можем пользоваться в этом во всём? Первое, чем мы можем пользоваться, это та же грамматика. Как правило, роль и назначение грамматики в этом смысле недооценивается, но помимо того, что грамматика задаёт парадигматические формы для оперирования, есть еще специальное обращение с грамматикой. Вот почему, скажем, мне с детства не нравилась борьба за чистоту языка? Тогда она мне не нравилась внутренне – не любил я чистый язык, зато больше любил подростковые и прочие сленги, жаргоны и т.д., но сейчас я понимаю другое: борьба за чистоту языка есть консервативно-социальное поведение, обеспечивающее господство одних людей над другими. А как раз нарушение правил языка через иронию, юмор, языковые игры – это есть способ схватывания содержания идей. Поэтому – с одной стороны – нельзя мыслить, не нарушая грамматических языковых правил, но одно дело разговаривать не по правилам, не зная правил, и другое дело – сознательное нарушение правил. В этом смысле, если грамматику рассматривать как один из способов оперирования идеями и как одно из средств мышления, то нужно понимать эту штуку. Т.е. с одной стороны – знание и умение пользоваться правилами грамматики, а с другой стороны – языковая игра, при которой эти вещи превращаются в шутки или специальные эпатажные вещи. И, собственно, с самого начала, с той самой пресловутой восьмерки, с которой я начинал философию – если мы вспомним Сократа, то у Сократа собственно и зафиксировано два метода философствования – майевтика и ирония. Ирония в этом смысле как особого рода отношения с грамматикой.
Но помимо грамматики у нас есть и другие способы, например, герменевтика. Говоря о герменевтике, я тут меньше всего скажу про герменевтику, просто полагая её туда. Вот, когда Татьяна говорит: «Я не понимаю, но я понимаю…», – т.е. «не понимаю» по факту, но «понимаю» как в процессе. Делаю усилия, чтобы понимать, хотя понимание так и не достигается. Герменевтика задаёт особого рода отношения с пониманием. Никто до сих пор в герменевтике ничего путного ещё не сказал и не сделал, хотя, если брать филологическую критику, то там много чего можно почерпнуть, и лучший текст по герменевтике, который я когда-либо читал, это, наверное, текст Козлова – странного преподавателя чуть ли не Царско-сельского лицея начала 19-го века, который попытался преподавать герменевтику не как богословскую дисциплину в бурсе, а придать ей некоторый светский характер. Ну, и, соответственно, те процедуры, которые он там зафиксировал… А этот текст есть…я давно уже не брал в руки этой книжки… это один из первых томов серии «Философское наследие», сборник «русская философия», такая старая книжка, вряд ли она переиздавалась с советских времен.
Но тут важен другой момент. Когда мы говорим про герменевтику, при всей её процедурной неразвитости и непростроенности, нужно понимать, что сюда мы не можем разместить вместе с герменевтикой другие новомодные штуки. Ну, например, семиотику. Вообще, всё, что связано с символическими формами, анализом форм, не попадает в структуру оперирования с идеями в идеальном плане, а фиксирует ту философскую линию, в которой из жизни нечто тянется в мышление как обязательные компоненты. Символизация и оперирование со знаковой формой в идеях на символическом уровне ведёт, скорее, к внушению, зомбированию и т.д. Когда паралогические атрибуты идеи решают ту же самую задачу, но в другом виде. Какую задачу? – Онтологизации. Фактически мы можем вести некоторую идею к онтологизации не за счет мыслительной работы и вообще просто работы в идеальном плане, а за счёт придания идеям онтологического статуса какими-то другими, привнесёнными вещами – авторитетом, манипулированием через чувство вины, долга и ещё какими-нибудь такими паралингвистическими путями.
Дальше. Помимо герменевтики нам нужна система категорий. И, собственно, перекатегоризация, которую мы осуществляем с идеями – это тоже есть способ оперирования с идеями в этом промежутке между идеацией и онтологизацией. Перекатегоризация, собственно, должна задать набор промежуточных этапов или тех мест, через которые нужно провести, протащить идею перед тем, как мы превратим её из элемента идеального плана в некий содержательный план действий, деятельности и т.д.
Что я ещё забыл? Там ещё у меня шла речь о логике, но логику необходимо понимать в расширительном её смысле. Потому что в определённом смысле логикой следовало бы назвать все эти процедуры, которые мы осуществляем в оперировании с идеями. Другое дело, что логика – это как язык. Когда мы говорим про язык, мы очень часто – или некоторые лингвисты, по крайней мере, исходят из того, что известные им конкретные языки репрезентируют язык как таковой. А это, в общем, очень сильная натяжка, очень рискованное обобщение. По большому счёту, языков много, существуют не только естественные языки, но и разного рода искусственные языки, с которыми мы работаем, и до сих пор ни одна попытка построить дерево языков, сделать естественную грамматику, которая была бы универсальной для любого языка, с моей точки зрения не увенчалась успехом. Конечно, кто-то мне может опять напомнить про Чомского, но я в это во всё не верю. Поэтому, когда мы говорим про логику, то мы обращаемся с логикой примерно так же, как и с категорией языка, т.е. мы знаем, о чём идет речь, но при пользовании логиками мы всякий раз имеем дело с конкретной логикой. И ни одна из конкретных логик не является достаточной для того, чтобы охватить все формы и способы оперирования с идеями в идеальном плане. Тем не менее, все способы, которые мы можем придумать, предложить для оперирования в идеальном плане, мы можем называть логикой, но это другое представление о логике. И, скажем, Щедровицкий, когда они расставались с некоторым логически фетишизмом, они рефлектировали в ММК это вот отношение. Т.е. они понимали, что логика не есть наука, а все известные им логики – это скорее формальные языки, искусственные языки, но вслед за Гегелем они могли говорить о науке логике, как о несуществующей пока в наличии, но возможной и мыслимой дисциплине, изучающей деятельность мышления.
Ну, и последняя штука – это системность. Я сейчас тоже не стану на этом останавливаться, тем более что когда-то я уже проводил серию других лекций, которые были короче и, наверное, более внятные – пропедевтика теории систем. Здесь я должен сказать по отношению к системности буквально следующее: что бы не происходило с идеей – перекатегоризация, изменение содержания при оперировании ею в идеальном плане, (т.е. она может быть совсем не похожа сама на себя в тот момент, в который она полагается в идеальный план, и в тот момент, когда она с идеального плана снимается и считывается, это может быть нечто уже совершенно другое) – когда мы говорим о содержании идеи, мы должны говорить не только о том, чем она стала, когда она снимается, считывается с идеального плана и переносится куда-то в более широкую систему, но и о том, чем она была вначале, и о всех тех изменениях и приключениях, которые с ней происходили в идеальном плане на протяжении всего того, что с ней там делалось.
И в заключении ещё несколько небольших добавлений. Итак, вообще эта штука, которую мы разбирали вначале – я её еще раз здесь нарисую – мыслима при необходимом и достаточном количестве рамок. Последняя рамка, помимо рамок оперирования или техник, есть рамка работы (рис. 12.1).
Рис. 12.1
Работы в том смысле, как я это вводил в одной из первых лекций – и в оппозиции к заботе, и вообще как к тому, что делается целеустремленно, сознательно, с отслеживанием всех промежуточных ходов, этапов (технологических или нетехнологических – неважно) – но, тем не менее, это то, что мы можем называть работой.
Без работы мы вольно или невольно оказываемся втянутыми в паралогическую форму, при которой вместо логики – в том её расширительном смысле, о котором я говорил, – на первый план выставляется мисология. У них общий корень – логос. Мисология, или «зло-логия» – «логическое зло» (если взять, например, мизантроп, то первая часть «мисо», «мизо» и там логия – миссология). Это альтернатива этим вещам, и фактически к мисологии можно отнести целый ряд философских и квази-философских установок как нашего времени, так и предшествующих эпох. Отсюда из мисологии рождается преувеличение значения, роли интуиции, всякого рода паралогических форм познания, и подмена работы в идеальном плане – философствования и мышления – разного рода другими какими-то формами – поэтическими, эзотерическими и всякими такими вещами, в том числе и такими, которые могут быть оформлены технологически.
Ну, например, модная и популярная штука вроде НЛП – нейро-лингвистического программирования – есть попытка технологизации такого мисологического отношения. Вообще психологизм или «внедрение», распространение разного рода психологических техник работает тоже в режиме мисологии. И последнее, что к этому можно было бы добавить – это идеология. Так вот, все эти штуки (поэзия в той мере, в которой её пытаются выдвигать как замену мыслительной работе) – НЛП, психологизмы, идеология – все эти паралогические формы решают в конечном итоге ту же самую задачу– онтологизации идей или возможности перевода идей из возможных, мыслимых в директивный план, повелительное наклонение. И, обсуждая мышление, с одной стороны, мы должны постоянно сталкиваться, противопоставляться этим мисологическим формам, а с другой стороны, мы должны понимать, что эти мисологические формы легче, проще, доступнее, и если мы зацикливаемся исключительно на достижении результата, то так или иначе мы скатимся с логических или мыслительных форм к употреблению этих форм. Всегда проще вместо философствования, напряжения мысли и т.д. создать готовую идеологию, впендюрить её в массы и жить долго и счастливо.
Т.В. – Если здесь есть рамка работы, то, значит, здесь тоже важен результат, цель и т.д., а она в чём? В онтологизации?
В.М. – Пока мы работаем в идеальном плане, то в конечном итоге там есть такая иерархия, что ли – иерархия целей, и онтологизация является промежуточной целью в этой работе.
Т.В. – А конечной целью что является, если онтологизация – это промежуточная цель?
В.М. – А конечная цель находится за пределами той части системы, которую я здесь ограниченно нарисовал, и она связана с тем расширением пространства, про которое я тоже говорил, но никогда не делал на нём упор – пространства, связанного с атрибутивно-эмпирическим комплексом и существованием «вещей в себе» и объективного мира вне нас. Ну, т.е. с тем, что раскупоривает философствование до практики.
Т.В. – Универсальные процедуры оперирования, которыми пользуются в идеальном плане, не имеют отношения к тому, что находится за пределами идеального плана? Да? Или в процедурах отражается основная система, в которую это всё встраивается?
В.М. – Ну, там смотри какая штука. Я уже говорил, что мышление – это некий комплекс, это такая штука, которую мы собираем. Из чего собираем? – Из всех тех фрагментов, которые я рассказывал на предшествующих лекциях, на этой лекции и т.д. Дальше: я сегодня обозначил эти рамки, но за пределами этих рамок, если обрамить ещё и вот это всё хозяйство, то там появляется, например, такая штука, как установки или интенции мышления, каковых, если ты помнишь, я выделял две – философия и техника (рис. 12.2).
Рис. 12.2
Это – собственно назначение, миссия мышления относительно самого себя. Что делает мышление? Оно рационализирует мир. С одной стороны оно противопоставляет мир себе, а с другой стороны оно рационализирует мир через эти две интенции, углубляя, усугубляя самое себя с тем, чтобы гораздо лучше, чётче, мыслительнее представлять себе мир, воздействуя на этот мир с тем, чтобы перевести его из хаоса в некоторое упорядоченное состояние в соответствии с мышлением. Поэтому сейчас я нахожусь в рамках философствования, я лекции читаю, «Введение в философию».
Т.В. – Наверно, я непонятно задала вопрос. Там сам идеальный план появлялся как нечто, как не просто пространство оперирования с какими-то объектами, а как пространство оперирования, встроенное в какую-то систему отношений, где одновременно с оперированием в идеальном плане происходят какие-то продукты или не происходят. Поэтому я спрашиваю: само оперирование идеями, категориями, ещё чем-то, – объектами, которые там есть, – сами процедуры соотносятся ещё с чем-то внешним или ограничены только идеальным планом?
В.М. – Мне очень трудно ответить тебе на этот вопрос, по крайней мере, одним образом ответить на этот вопрос. С одной стороны, всё, что я сейчас рассказываю, разворачивается в идеальном плане, с другой стороны, всё, что мы делаем в идеальном плане, имеет свои корреляты вне идеального плана в той совокупности отношений, процессов, которые находятся вне идеального плана. Вот, например, говорю я «категоризация» – и это означает, что мы переводим идею из одной категории в другую категорию, работая одновременно с несколькими категориями, потому что даже перевести из одной в другую мы не можем непосредственно, нам нужно построить систему категорий, с помощью которой мы это делаем. А откуда берутся категории, если не из учёта, отношения ко всему тому, что происходит за пределами идеального плана? Кроме того, очень важна вот эта вещь – что мы пририсовываем к идеальному плану обязательно две фигуры, а эти фигурки ещё трактуются и понимаются через индивидуальность. Вот эта индивидуальность и обязательное их противопоставление как «одного» и «иного» и задаёт собственно сам порядок и характер работ в идеальном плане. Без этого можно было бы работать в идеальном плане, не обращая внимания ни на что вокруг. Но вот это всё запрещает.
Т.В. – Вы понимаете, что ни перечисленных категорий, ни самого порядка не видно, или он как-то параллельно?
В.М. – Не видно, потому что я не могу в кусочке говорения рассказать всё сразу. Оно не видно, но ты можешь об этом помнить?
Т.В. – Вот я и спрашиваю: мне надо про это помнить или не надо?
В.М. – Надо. Конечно, надо.
Т.В. – Вы просто про это не говорите, и я этого …
В.М. – Ну, девичья память – она такая штука, ей особо не прикажешь, но помнить надо, ты постарайся. Но в тех рамках, которые я сегодня обозначил, оперирование осуществляется с помощью этих вещей. Более того, я говорю, что если не просто помнить, а пытаться делать из память сразу законченную процедуру онтологизации, мы не сможем вообще мыслить. Почему я настаиваю на радикальном идеализме? На определённых этапах мышления должно плевать на всё остальное, но помнить. А тут – нет. Понимаешь, вопрос серьезный, я когда думал об этом сегодняшнем разговоре, мне приходилось вспоминать целый набор всяких эпизодов из собственной практики.
Одним из всплывавших в памяти эпизодов был такой. Пока я ещё жил в Москве, у нас возникла необходимость высаживания десанта в Находке (это город на Дальнем Востоке на берегу Тихого океана), в котором в начале 90-х годов начался экономический подъём и возникли олигархи местного разлива. Они столкнулись с тем, что обустроить жизнь по собственному олигархическому представлению они не могут, из-за того, что люди, которые живут в Находке (а их там 200 тыс. человек), их не понимают – не понимают, что они хотят. И, будучи знакомы с методологами, они придумали, что образованием можно поднять уровень образованности находкинских людей, и они станут понимать олигархов. Под это дело Пётр Щедровицкий договорился с ними сделать дистантный университет. Возник набор преподавателей, которых стали называть «визит-профессорами», и из этих визит-профессоров формировалась десантная групп человек в пять, и мы раз в месяц вылетали в Находку и проводили там неделю, окучивая и обучая учителей, банковских работников, местную администрацию и всяких других людей. Но при этом мы – те, кто участвовал в планировании, – понимали, что добром это всё не кончится, ничего хорошего из этого не получится. А почему? Потому что перед тем, как принять такое решение, туда был отправлен на разведку человек из Школы культурной политики – примерно как норвежская обувная фабрика отправили коммивояжера в Африку на предмет сбыта туда обуви. Так вот, послали туда на разведку человека, и он там недели две ошивался, изучал ситуацию и т.д. Но ещё до того, как он вернулся, он позвонил и сказал, что, ребята, ни хрена не получится из всей этой затеи, и вообще город глухой. Когда его спрашивают: «почему?», он говорит, что, понимаете, тут очень узкий слой идеального. Ему говорят: мало того, что непонятно, что такое слой идеального и почему он узкий, так еще расскажи, пожалуйста, почему ты так решил, на каком основании. Он говорит: «Понимаете, я живу в гостинице, поэтому (как мы в экспедициях) приходится питаться в столовках, ходить по магазинам и т.д. И смотрю я на ассортимент товаров в киосках, в магазинах, расспрашиваю людей, и поражаюсь убогости ассортимента (а это 90-е годы, а город не бедный). Я смотрю на ассортимент этих вещей, поражаюсь его убогости, но это ладно, я бы сказал, что здесь жизнь убогая. Я удивляюсь, что людям, живущим там, этого ассортимента достаточно, т.е. у них нет других потребностей, желаний, ещё чего-то и т.д.»
Поэтому, когда я говорю про работу в идеальном плане, я имею в виду целый ряд вещей, которые в том числе и делают идеальный план действительным – и тогда это логическое отношение, или недействительным – тогда это мисологическое отношение. Но даже, если это не мисология, а мыслительное отношение к идеальному плану, то всё-таки идеальный план может быть узким, плоским и т.д. Например, диамат – очень изощрённая философия. Она приближается по набору категорий, различений, вещей, которые в ней употребляются, к лучшим образцам схоластики. Но идеальный план, который формируется топикой диамата, настолько узкий, – мало того, он ещё и плоский к тому же – поэтому развернуться там для работы практически невозможно.
С другой стороны, понимание грамматики, набор герменевтических техник, категорий, логик и т.д. тоже могут обеднять эту работу. Каким бы изощрённым, развитым не был идеальный план, в конце концов, когда мы пользуемся в консультировании, в обучении, введением методологических схем, то что мы делаем, когда вводим методологические схемы? Там ведь нет никакой идеи, нет никакого содержания. Но мы организуем доску, то есть организуем идеальный план для работы, то есть задаём топику, необходимую на данный момент времени. И когда удаётся ввести топику, людей штырит. Для них вдруг открывается просто неимоверный мир. И типичная схема, на которой это достигается – это либо оргдеятельностная схема, либо схема шага развития. Но дальше, следующая штука: когда мы топику идеального плана построили, мы можем по ней протащить определённую идею и дойти от идеального плана до плана.
Но после этого наступает этап реализации. А этап реализации предполагает замену в этих позициях у идеального плана (на рис. 1.4 – философ и практик) людей, наполняющих эту позицию. И выясняется, что если дальше у людей нет развитых техник, то самый замечательный план не реализуется. Построить можно, а план не реализуется. И если взять нашу историю, когда мы на игре в Киеве простроили в идеальном плане будущее страны… А тут сейчас, когда мы в Вильнюсе были, то в первый день происходит некоторая тусня и в этой тусне надо объяснять, что мы сейчас делаем. На ряд реплик Татьяны, моих, Влада в глубокую обеспокоенную задумчивость впала Ирина Сухий, и она сказала, что у нее дежавю. Когда стали спрашивать, что за дежавю, выяснилось, что она переживает заново ситуацию 2005-го года, группу «Разам» и т.д. И что её тогда торкнуло, когда она уже за рюмкой чаю эти вещи начинает рассуждать: «Понимаете, какая фигня тогда происходила: Мацкевич тогда нам говорил, что если не сделать того-то, того-то, того-то, то будет то-то и то-то. Мы это так и не сделали, и таки то случилось. Теперь они нам тут впендюривают, что надо то-то, то-то и то-то, но мы же опять не сделаем. Значит опять будет плохо». Но спрашивается, а что мешает сделать?
А фокус состоит в том, что, когда надо выйти из одной коммуникации и работы с идеальным планом и вступить в коммуникацию с другим, но не впендюривать идеи, а опять-таки заставлять работать людей в идеальном плане, только тогда можно будет переходить к поэтапной детализации реализационного плана. Вместо этого, то есть вместо того, чтобы работать в идеальном плане или мыслить, люди начинают друг друга зомбировать, накачивать или ещё какими-нибудь такими вещами заниматься, а дальше ничего не получается. Потому что если вы спроецируете трехмёрную картинку на плоский экран, получится плоская картинка, как ни крути. Если у вас устройство идеального плана или топика идеального плана не соответствует идее, которую нужно разворачивать – то вы каждый раз получите редукцию этой идеи или вообще какую-нибудь ублюдочную идею. Отсюда такое внимание и к устройству идеального плана, про которое я уже которую лекцию говорю, и про способы оперирования с идеями в нём.
А дальше – чего я не говорю. Если бы я, скажем, другую тему выбрал – про методологию рассказывать, а не про философию – я бы должен был специально остановиться на наборе схем, с тем чтобы, во-первых, освоить их, а, во-вторых, показать, как это вообще усиливает, увеличивает возможности мышления. Вот в первом Агентстве гуманитарных технологий я учил народ очень маленькой вещи: я их учил оперированию рамочно-ядерными конструкциями. И это тянулось почти полгода. Через это формировался набор техник, процедур и т.д. Все остальные вещи употреблялись по мере необходимости. А вообще говоря, они все взаимозаменяемы. Идеальный план может быть построен в самой разной топике, и чем больше топических форм в нашем репертуаре, тем изощрённее, мощнее, рафинированнее наша индивидуальная способность к мышлению.
Я наверняка чего-то забыл, чего-то не сказал, но, тем не менее, я бы на этом закончил.
А.К. – А можно ещё вопрос? Вы говорите о соответствии идеи, которая попадает в какое-то топическое пространство, там с ней оперируется – это руководящий принцип работы или это результат оперирования?
В.М. – Ещё раз. Я говорю про соответствие идеи чему?
А.К. – Условию, которое предъявляет топика по отношению к полагаемой в неё идее.
В.М. – Да, но не топика. Там нельзя говорить про топику, а можно говорить про топ – место в топике. А характеристики места задаются уже самой топикой.
А.К. – Да, тогда идея должна – почему и смеялись – или попадает, или не попадает. Её надо как-то обрубать или искать место …. Как соотносить, идея должна содержательно свои основания собственно логические иметь, чтобы можно было это видеть. Я не понимаю самой процедурности той операции полагания.
В.М. – Давай восстановим это всё последовательно. Итак, начало всему мы фиксировали как нарушение закона тождества в употреблении «В» как предиката и субъекта в разных высказываниях (рис. 13.1). Потом фиксация разницы приводит к некоему вопрошанию: «Что за фигня, братцы, у нас закон тождества нарушен?!!» (рис. 13.2). Это всё в коммуникации разворачивается. На такое вопрошание следует некий ответ. Ответ, когда как минимум двое собеседников зафиксировали, что, употребляя «В», каждый в своём говорении говорит про разное. И как же быть? Долдоны начинают определять понятия и в этом смысле возвращать закон тождества в коммуникацию, умные люди в какой-то момент хлопают себя по лбу и говорят: «О, есть идея, почему это у нас так происходит» – рождается идея (рис. 13.3). Вот она родилась, и на этом её предыстория закончилась. После этого эту самую пресловутую идею необходимо из коммуникации как таковой, из разговора перенести в рабочий режим (рис. 13.4).
Собственно покласть, положить, разместить в идеальном плане. Вот такая штука. Теперь: то, что ты спрашиваешь, как мне кажется, относится не к последовательности этапов, а к тому, а что такое вот это самое «В»?
Т.В. – По-моему, он спрашивает про выделение.
А.К. – Я спрашиваю о «ложимости» идеи в пространство, куда она должна быть положена.
В.М. – Но корни этого вот здесь (в значке «В» на схеме).
Т.В. – Он спрашивает – это процесс, результат или условие?
А.К. – Идея несёт какие-то….Что-то она несёт из коммуникативной ситуации, когда два человека говорили, два человека поняли друг друга на основании чего-то, сформулировали это как идею…
В.М. – Нет, или поняли, что они не понимают друг друга. Это даже лучше.
А.К. – Я не говорю, что идея … Идея связана с пониманием, но не связана на уровне того, о чём говорили.
В.М. – Да, но теперь смотри, когда я так вот рассказываю всё это, то для того, чтобы ответить на твой вопрос, почему одно место не терпит каких-то идей, а другие идеи не помещаются в какие-то места, надо проследить теперь не только формальную дорожку, но и назвать «В» в качестве субъекта и предиката разных высказываний с большей определённостью. Например, мы говорили тогда про город, или про Беларусь, или ещё про что-то такое. И вот когда терпит – не терпит, терпеж или нетерпеж (соответствие-несоответствие) – это только тогда возникает, когда на формальную линию накладываем еще и конкретную. Только тогда эти вещи… Что? Я опять не про то отвечаю?
Т.В. – Ты понял? По-моему, это опять не про то.
В.М. – Ты меня вообще в шизофреники запишешь.
А.К. – Ну, близко… Про наложение конкретной и формальной линии я понимаю…
В.М. – Но без этого нельзя разговаривать об уместности-неуместности. Я на другом примере могу рассказать, он был Георгием Петровичем рассказан несколько раз, а потом уже становился дидактической басней. Это когда ещё в советские времена министр образования просит его (ГП) принести программу реформ образования. ГП приносит программу, а тот смотрит и говорит:
— Что ты мне принёс, что за фигня такая?
— Ну, как, я программу принёс, как можно сделать реформу образования.
— Я понимаю, что ты написал это. Но тут же надо на это всё 25 лет.
— Конечно, 25 лет, – говорит Георгий Петрович.
— Ты что, совсем сдурел? Я на этом посту еще года 3-4 продержусь. Поэтому ты мне принеси реформу, которую можно сделать за 4 года.
— Не, понимаете, какая фигня, за 4 года реформу сделать нельзя.
— Ну и пошел вон, – тот ему говорит.
Понимаешь, и тогда: что он принёс? Принёс некую идею реформы, и, когда мы начинаем эту идею реформы расписывать в топах времени, министр и говорит, что я министр и мыслю себя таким. Я живу настоящим, меня через 4 года либо отправят на повышение, либо на пенсию без сохранения содержания, поэтому мне нужна реформа для того чтобы получить орден в конце срока министра и повышение, а ты мне говоришь про это (насхеме шага развития – будущее). Не помещается в его топику принесённая идея.
То же самое – сегодня Солана сидит и слушает Лукашенко. Я боюсь просто, что Солана, скорее всего, подумал о трудностях перевода с беларуского на испанский, когда про посредника говорилось. Явно не совпадает субъект с предикатом. Солана приехал, первым делом встретился с Жанной Литвиной и с Александром Козулиным, с тем, чтобы они рассказали, как ему разговаривать с Лукашенкой. Лукашенко говорит: «Солана, забудь, что они тебе сказали. Они дураки, враги. Давай мы с тобой как настоящие конкретные пацаны вдвоём распилим этот вопрос без этих козлов». И начинается вся эта катавасия. С одной стороны, Лукашенко это сказал, потому что знал, с кем встречался Солана до него, а с другой стороны, потому что не хочет принимать позицию другой стороны и не просто позицию другой стороны, а всё устройство идеального плана и того предложения, которое другая сторона делает. Он свой народ, как говориться, за цивилизованным миром не поведет.
Ещё вопросы, реплики, замечания?
Д.Г. – Скажите, пожалуйста, там, по-моему, в тезисах Вы говорили кратко про диалектику и идеологию как два пути …
В.М. – И тавтологию.
Д.Г. – Да, тавтологию, как два пути развития в институте философии. А вообще как-то отличается путь в идеальном плане и процессы онтологизации и идеации в зависимости от того, какой выбор из этих двух путей будет сделан?
В.М. – В данном случае они не варианты, а они помещаются в один из этих способов оперирования. Например, можно в категоризации работать тавтологически, а можно диалектических, т.е. для того, чтобы идея содержательно обрастала и трансформировалась, её можно проговорить, например, в разных предметностях. От этого идея сама не меняется, – в смысле отрицания себя или добавления чего-то – но зато она обрастает целым рядом других вещей. И это обрастание либо её украшает, либо делает её банальной и бессмысленной. Но для того, чтобы провести из категории в категорию или, наоборот, по схеме «воспроизводства деятельности» и «шага развития», для того чтобы ты в другой социально-реализационной ситуации мог реализовать некую норму, она должна быть протранслирована до этого времени, а транслируется она тавтологически. Другое дело, что если ты начинаешь иначе к ней относится, то она породит другую норму, а не будет реализована. Поэтому в институте философии и та и другая форма – диалектическая и тавтологическая – применяются в этих формах оперирования в идеях.
Д.Г. – Т.е. разница в нюансах?
В.М. – Что значит в нюансах?
Д.Г. – Ну, т.е. как я понимаю, что Вы говорите: процедурно сохраняется эта последовательность.
В.М. – Только это не последовательность.
Д.Г. – Ну, да. Набор процедур. Но в зависимости от того, как это всё применяется – оно либо тавтологично накручивается, вбирает в себя новое содержание, либо диалектически развивается. Я так понимаю Ваш ответ.
В.М. – Ну, да. И некоторые топики предполагают только тавтологические формы. Вот схема «шага развития», например, предполагает…
Д.Г. – Это Вы уже по-другому говорите.
В.М. – Что по-другому? Нет. На схеме «шага развития» рисуем три варианта движения – эволюция, развитие и инновация (рис. 14).
Рис. 14
По большому счету, при таком шаге (это диалектический шаг) нам необходимо рефлексивная переработка – почему собственно и развитие. Тогда как эволюционный и инновационный путь в большей степени допускают тавтологичные процедуры. Поэтому в разных топиках мы по-разному обходимся с этими вещами. То же самое – топика эйлеровского пространства, матрёшечная такая штука, навязывает тавтологичные формы с разной степенью обобщения. Когда мы говорили про гражданское образование, там предлагалось топическое протаскивание идеи по этим самым топам, один из которых встроен в другой и т.д. Где искать смерть Кащея? На дубе сундук, в сундуке утка, а там заяц. Или наоборот. Неважно.
А.К. – Т.е. получается, что определённые топы позволяют проводить только определённое количество операций?
В.М. – Ну, не количество, а накладывают ограничение на применимость тех или иных операций, конечно.
А.К. – Ограничение на применимость?
В.М. – Ну, да, конечно.
А.К. – Ну это тогда не количество, ограничение применимости надо тогда соотносить все равно с …
В.М. – Нет, есть топики, в которых количественные отношения важнее всего. Но опять же, очень забавная топика линнеевской классификации. И, скажем, Дарвин, если бы был хорошим учеником, то не надо было бы ему таскаться на Галапагосские острова, он бы вывел идею эволюции из линнеевской топики. Но из линнеевской классификации растительного мира ничего подобного не следует. Поэтому протаскивать эволюционный такой путь достаточно просто через происхождение видов, которые мы упаковываем в виды, роды, семейства, отряды, классы, типы в животном мире и можно построить эволюционное дерево. И ничего подобного сделать с топикой растений – хотя формально они одинаковые – нельзя.
Д.Г. – Нет, ну некоторые делают. Точно так же строят.
В.М. – Ну, некоторые делают, но делают это грамматически и символически. Вот грамматически и символически легко, а как только начинаем думать про содержание – фиг вам. Хотя чего там на генном уровне, я сейчас уже не знаю, что там твориться с этой топикой. Всё?
А.Б. – Я хотел уточнить, Вы говорили про НЛП и эзотерику и определяли их как мисологию, но ведь к идее НЛП или к идее эзотерики это ведь не относится?
В.М. – Ну, что такое идея эзотерики, я не знаю. Я огулом назвал эзотерическими разные штуки, там много разного…
А.Б. – Ну, сказки в воспитании детей.
В.М. – А при чём тут эзотерика?
А.Б. – Ну, ладно, может быть здесь я сказал неточно, но допустим про НЛП.
В.М. – Сказки в воспитании детей – это я как бы даже сам описывал в «Полемических этюдах» и там все правильно. А с НЛП …
А.Б. – Эзотерика – это ведь сказки для взрослых.
В.М. – Ну, нет. Может они и сказки, т.е. точно сказки. Ну, там же другое. Там же речь идет о некой сокровенной истине или о высшей истине. Ведь сказка ложь, да в ней намёк. В этом смысле категоризация сказки однозначна. Другое дело эзотерика. Вы скажите Блаватской, что она там фигню нагородила, сказки рассказывает. Она же рассказывает, что ей откровение было, видение. А дальше: а как это всё проверить? А она говорит: «Ребята, верьте мне, ведь видение у меня было». Это и есть мисологическая форма.
А.Б. – Ну, с эзотерикой понятно, действительно, это мисология, и к сказке отношения не имеет. Ну, а с НЛП? Есть же, скажем, классификация психотехник, она же применима на каких-то этапах? То, что на столбах объявления развешивают, это, конечно, мисология. И сами семинары НЛП-шные, где нету никакой цели идеальной, когда просто учат манипулировать…
В.М. – Я же и говорил про то, что там, в принципе, есть технологическое оформление этого всего и в этом смысле НЛП задумывалась совсем с другими целями. Когда Милтон Эриксон владел рядом техник – скажем, внушение без погружения в транс или, наоборот, вызывание транса буквально несколькими действиями без всех пассов гипнотических, и прочее и прочее. Владея этим всем, он мог продемонстрировать любому и каждому технику. Но это – как чудо, хотя он был человеком честным, в отличие от эзотериков и не говорил, что это чудо, он просто умел это делать, и просто любому готов был это показать. Но это делалось так быстро, и при этом наблюдатель не знал, за чем наблюдать и смотреть, что нужно было это делать как в замедленной съемке. И эти два чувака – забыл как их фамилии… Гринберг и Блэндер или что-то такое – они в течение нескольких лет наблюдали Милтона Эриксона и его учеников, фиксируя абсолютно бессодержательно – не то, что другие врачи-психиатры фиксировали, а они, не будучи психиатрами, а будучи программистами, смотрели, что он делает. Кто-то фиксировал, как он говорит, интонации его голоса, а эти смотрели ещё и за движением его глаз. Потом, набрав всей этой информации, начали к нему приставать: «А почему Вы, когда говорите вот это, смотрите туда-то и туда-то? Зачем Вы в это время делаете движение такое, причём это повторяется несколько раз?». И потом они описали это как технику. И я думаю, что НЛП-ишная техника в принципе как технология существует, никакой дури в этом нет и можно вообще всё это делать. Но для чего? Для одного: можно с помощью этой техники вгонять человека в транс, т.е. вырубать у него мышление и сознание.
А.Б. – Или наоборот, освобождаться от чужого манипулирования, может, на это не делают упор, – те, кто проводит…
В.М. – Нет, нельзя освободиться от одного манипулирования другим манипулированием. Единственное средство освободится от манипулирования – это скептицизм, критицизм и самостоятельное мышление.
А.Б. – Мы касались языка сегодня, язык очень много формирует мышление, да?
В.М. – Ну, он задает изначальную базу для этого.
А.Б. – То же самое и технологические схемы, методологические схемы и другие знаковые системы – мы это уже разбирать не будем? Ну, не знаю, тех, кто построил какие-то классификации языков…
В.М. – Ну, во-первых, я тут не силён, я как любой философ дилетант и чайник в большинстве вопросов, поэтому, наверное, можно было бы туда углубляться и, если бы кто-то взялся за это, я бы с удовольствием с ним на эту тему поработал.
А.Б. – Меня этот вопрос интересовал, у меня два приятеля в инязе преподают, но они не могут посоветовать, к сожалению, книгу по обобщённой какой-то лингвистике, т.е. таких работ, чтобы кто-то занимался языком как мышлением, нет?
В.М. – Языком как мышлением, наверное, специально никто не занимался. Языковым мышлением занимались, вопросами соотношения философствования и языка занимались. Но, наверное, очень трудно разбираться с Соссюром, Витгенштейном или ещё кем-нибудь, не зная накопленного лингвистического, языковедческого аппарата.
А.Б. – Ну, я Вам приведу конкретный пример. Допустим, в английском есть времена, гораздо более чёткие, чем в русском. В русском их очень мало, и люди соответственно ими не мыслят. С другой стороны, в русском больше окончаний, приставок, и это замедляет мышление, потому что человек вынужден достраивать их. В английском – наоборот, этого нет. И если бы существовала такая классификация насчёт языка, хотя бы на уровне Линнея насчёт растений…Элементы языка, какое…
В.М. – Классификации есть, более того, есть квазилиннеевские классификации. Эта идея ностратического языка, через языковые семьи выйти к протоязыку…
А.Б. – Меня история языка на самом деле мало волнует.
В.М. – Дело в том, что там же нельзя отделить историю и генетическую связь. Истории языков – это одно дело, но существует ли генетическая связь? И попытка построения дерева языков с возведением к прото-индоевропейскому языку, к ностратическому – это ведь и есть перенос. Неконтролируемый, немыслительный перенос линнеевской классификации на структуру языка. И вот маровская вся лингвистика на этом базировалась. Другая идея постоянно была связана с идеей естественного языка, естественной грамматики, при которой нет эволюции языков, а есть дивергенция языков.
Д.Г. – Иррадиация, наверное, больше.
В.М. – Иррадиация. И она имеет очень древнее происхождение – эта идея сама по себе проста и примитивна, поэтому и в древности ей пользовались в попытках найти естественный протоязык, и сейчас говорят что-то про это, но, по-моему, идея та же самая.
А.Б. – Просто если собрать всё то, о чём здесь говорится, о мышлении – и как-то классифицировать языки по этому поводу…
В.М. – Не, ну классификация это неинтересно, дело не в классификации совершенно, но попробуйте, я ж только за буду. Каждый из нас ограничен …
А. Б.– А методологические схемы как-то у Вас собраны?
В.М. – Ну, я ж говорю, я собирал для своих нужд, У Светланы, например, всё это до дидактики доведено. Я когда-то в Латвии, когда первый семинар начинал с нуля… До Латвии и даже в Лиепае, я всегда был в семинарах более-менее подготовленных. Моя жизнь так сложилась, что я со второго курса университета живу в семинарах. До того я был в семинарах скорее чужих, а в Лиепае мне пришлось семинар запускать с нуля. И я придумал для них глобус методологических схем, как они там в друг друга перетекают и описывают некоторую структуру мира. Когда с нуля начинаешь, это можно делать, но сейчас я – уже на уровне этого АГТ и этого семинара – в этом необходимости не вижу, но я думаю, что для неофитов это было бы очень неплохо, но это не ко мне скорее, а к кому-то другому.
А.Б. – Т.е. это уже к трансляции образования.
В.М. – Да, а книжки писать на эту тему, честно говоря, мне уже лень – ту же пропедевтику теории систем, где все без исключения схемы вводились, я до сих пор не взялся ни отредактировать, ни записать и т.д. Когда дело дойдет до того, чтобы эти лекции как-то систематизировать, я тоже не знаю.
Всё? Или ещё что-нибудь?
А.М. – Это будут делать Ваши ученики.
В.М. – Вот им флаг в руки и пинок под зад.