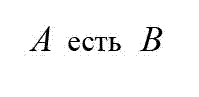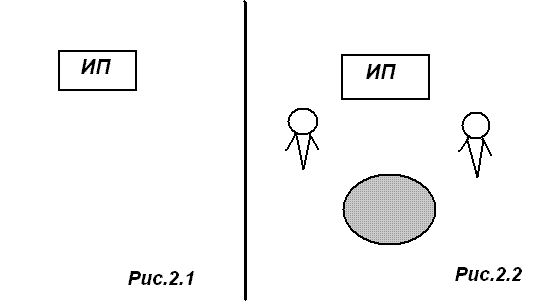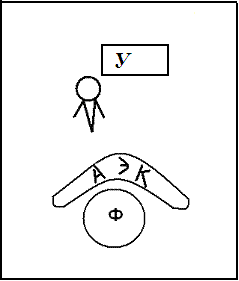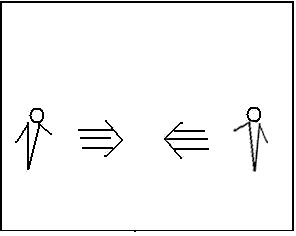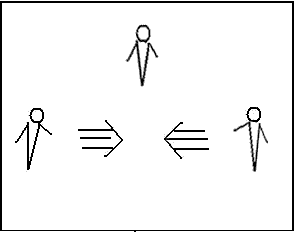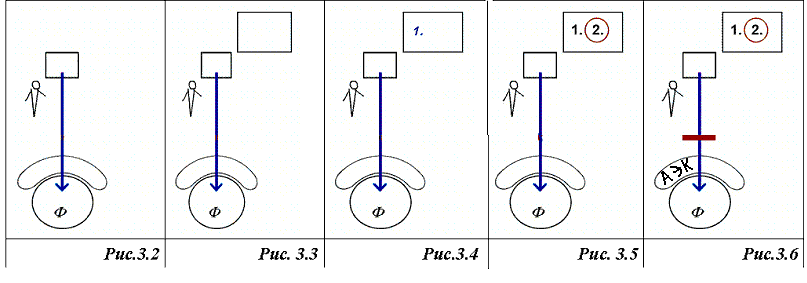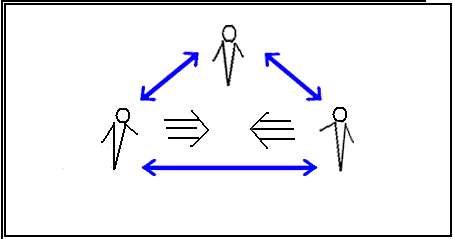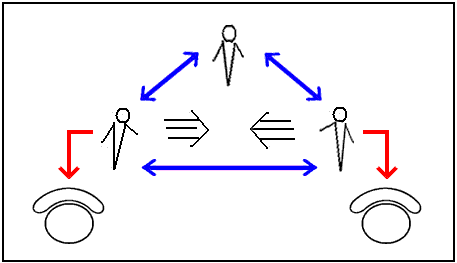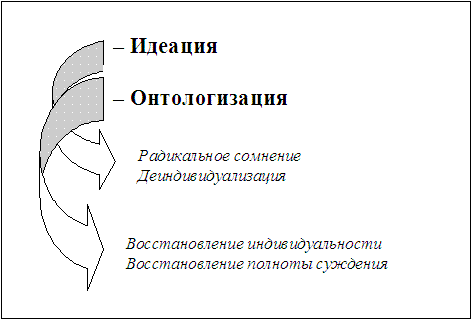Введение в философию. Лекция 12. Радикальный идеализм
12 февраля 2009 г.
В.М. – Владимир Мацкевич
Т.В. – Татьяна Водолажская
А.Е. – Андрей Егоров
С.М. – Светлана Мацкевич
Д.Г. – Дмитрий Галиновский
О.Ш. – Оксана Шелест
А.Л. – Алексей Ластовский
Тем, с кем мне приходилось обсуждать (хотя бы чуть-чуть) эти лекции, которые я читаю, я уже говорил, что иногда порядок, план и содержание лекций мне приходится передумывать или менять буквально по несколько раз. Но, как правило, так или иначе, эта смена, в общем, укладывается в некоторую, по крайней мере, для меня понятную конструкцию. Продумывая сегодняшнюю лекцию, я столкнулся с некоторыми трудностями, при которых какой-то хорошей картинки у меня не складывается. С одной стороны, потому что, наверное, я не рассказал или не затронул некоторых очень важных и тонких вопросов, в которых у меня не то что полной ясности нет, а вообще, местами, полная неясность. А с другой стороны, набранный или сформировавшийся темп, медленный, но, тем не менее, какой-то упорядоченный, предполагает скорее поступательное движение, чем возврат и отклонение в сторону. Иначе, если я ещё начну отклоняться в сторону, углубляя какие-то развороты, то всё это вообще вырастет в какой-то бесконечный без явного конца разговор. Поэтому, наверное, какие-то переходы от одного содержательного куска к другому выглядят несколько искусственными и, может быть, не всегда обоснованными для тех, кто слушает и читает эти лекции. Это можно было бы как-то затрагивать в обсуждениях, но поскольку мы свернули и обсуждения этих лекций, запустили параллельный семинарский режим, который пока тоже идёт со скрипом, то, в общем, я продолжу двигаться вот такими скачками.
Поэтому, возвращаясь к тезису, который я уже озвучивал на прошлых лекциях, – что по большому счету всё необходимое в крупных блоках для обсуждения мышления я ввёл, или, по крайней мере, назвал, упомянул – то сейчас я бы хотел рассмотреть вопрос, который сформулировал в тезисах, которые были выставлены на methodology.by, но, как выясняется, не попали в рассылку.
Я буду отталкиваться от вопроса Хайдеггера, который мне уже приходилось озвучивать и как-то к нему относиться в тексте о рыжем утконосе – «Почему мы до сих пор не мыслим?». Хайдеггер тоже задался этим вопросом, когда ему представилась возможность выступить с большой публичной лекцией на немецком радио в начале 50-х годов. И я сейчас вернусь к этому вопросу, но, опять же, с другой стороны. Имея в виду, что местоимение «мы», которое является подлежащим в этом вопросе, допускает две формы понимания, наполнения. Местоимение – оно вместо некоторого имени употребляется. Какое имя можно поставить вместо этого местоимения? Во-первых, «мы» может относиться к некоей большой общности людей. Например, про что мог говорить Хайдеггер, или про что можно, интерпретируя вопрос Хайдеггера, говорить, когда мы спрашиваем, почему мы до сих пор не мыслим? Имея в виду под «мы», например, нацию или человечество.
Я думаю, что, по большому счёту именно так и можно интерпретировать, частично интерпретировать посыл Хайдеггера, имея в виду ещё и, скажем, контекст произнесения этого доклада или этой лекции Хайдеггера. Т.е. это Германия, разгромленная во время войны и еще не пришедшая в себя. При этом немцы, или Германия к 20-му веку, могли считаться самой мыслящей нацией, если вообще можно говорить в таком контексте про нации – мыслящие нации, немыслящие нации, ну и т.д. Я даже вспоминаю опять же тот афоризм Чаадаева, который когда-то тоже использовал в своём тексте. Он примерно из той же оперы, что и вопрос Хайдеггера и звучал примерно следующим образом – Чаадаев спрашивал – «На что нужна мысль?». И отвечал про разные нации – говорят, например, что французам мысль нужна, чтобы её обсудить, англичанам – чтобы привести её в действие, а немцам, говорил Чаадаев – для того, чтобы её обдумать. Про русских он вообще, как и положено Чаадаеву, сказал, что русским незачем. А в России зачем вообще нужна мысль? – «Ни зачем» – ответил он. Но сейчас, затрагивая немцев, – в 19-м веке это устойчивое мнение складывалось, к 20-му веку оно, в общем-то, укрепилось, и если бы не фашизм, не война, то, наверное, оно так бы и оставалось, что немцы – это самая философская, самая мыслящая нация. И, тем не менее, Хайдеггер, задаваясь вопросом, «Почему мы до сих пор не мыслим?», говорит это в Германии, ну, и, в общем-то, думающие немцы должны были бы относить это на счёт немецкой нации.
По-своему, наверное, можно было бы понимать этот вопрос Хайдеггера по отношению к человечеству. И этим можно было бы ограничиться – двумя этими именами вместо местоимения: нация и человечество.
Если отвечать на вопрос, имея в виду такое наполнение этого подлежащего в вопросе, то я бы отослал к той части лекций, которая касалась института философии. Сказал бы, что ответ на этот вопрос для меня достаточно прост. Мы, т.е. нация или человечество, не мыслят в силу недостаточной сформированности или развитости института философии. Поэтому я бы говорил следующим образом: тот институт философии, который я обсуждал на протяжении нескольких лекций, соразмерен или относится к такому мыслящему субъекту, который может охватываться такими категориями, как нация, человечество, или рядоположенными общностями. Что может быть в этом смысле рядоположенной общностью – это, например, какая-нибудь культурно-языковая общность, региональная. Ну, например в конце 90-х годов в России активно стала обсуждаться категория русского мира, когда они обнаружили, что русские расползлись по всему свету, причем расползлись достаточно компактно, и в этом смысле большие, культурные русскоязычные анклавы возникли в Израиле, Америке, в одной Германии есть несколько городов, в которых русскую речь можно услышать так же часто, как самую распространенную, турецкую, например. Примерно та же ситуация, например, в Праге. Прага ещё после первой волны послереволюционной эмиграции была таким русскоязычным культурным центром, не говоря уже о том, что серьёзные анклавы русскоязычного (или совкового, но, тем не менее, русскоязычного) мира сформировались в оторвавшихся культурах, оторвавшихся нациях. В Латвии русскоязычная община составляет практически половину населения. Ну а в Украине, и тем более в Беларуси, в общем, мы до сих пор пользуемся русским языком по преимуществу как языком мышления. И тогда можно говорить, скажем, не о нации – «россияне», а вообще о более широком сообществе людей, по преимуществу пользующихся в профессиональном общении, деловом общении, даже личном общении русским языком. То же самое можно относить и к немецкому языку, и к франкофонным и т.д. Могут быть, наверное, соизмеримые с нациями ещё какие-то общности, квазирелигиозные, скажем так – католический мир или что-нибудь вроде этого.
Так вот, если ставить вместо местоимения «мы» такие общности, то, я ещё раз повторюсь, ответ на вопрос, «Почему мы до сих пор не мыслим?» – он достаточно прост. Потому что недостаточно развит или плохо функционирует институт философии. При этом, ставя соразмерность института философии вот этим общностям, я бы и ограничился таким ответом. Добавка, которая тоже в тезисах озвучена, заключается только в следующем: я рассматривал или формулировал институт философии именно применительно к такого рода человеческим общностям, наверное, надо было бы рассмотреть специально аналог института философии в системах деятельности, ну, например, в каких-то профессиональных областях, или в научных дисциплинах, которые сформировались именно как интернациональные или наднациональные институции. Может быть, то же самое можно было бы обсуждать и по отношению к каким-то таким общностям, находящимся в стадии формирования, например, к бизнес-сообществу, или, скажем так, к сообществу европейских бюрократов, и так далее. Соответственно, тогда это наименование или номинация института философии по отношению к такого рода системам деятельности – она, конечно, непригодна. Хотя, какие-то основания для этого есть – не зря же, скажем, американцы ввели такую ученую степень – доктор философии, ph.D, которая присуждается не за занятия философией, а как низшее учёное звание в некоторых профессиональных или научных областях. И вот такие аналоги, которые обеспечивают мышление в системах деятельности, тоже могут быть рассмотрены. Но в данном случае мне незачем этим заниматься, это для меня не является сейчас актуальным.
Более актуально в данный момент по темпу и логике разворачивания содержания этих лекций для меня другое – содержательное наполнение местоимения «мы» в исходном вопросе. Т.е., когда я слышу этот вопрос Хайдеггера – «Почему мы до сих пор не мыслим?», я могу трактовать «мы» не как некую человеческую общность, а как чисто собирательный термин, где содержанием является единица этой совокупности «мы», и тогда вопрос «мы» относится к человеку или к той пресловутой индивидуальности, о которой я говорил. В большей степени, конечно же, к индивидуальности, потому что такого рода вопрос – «Почему мы до сих пор не мыслим?» – он, в общем, большинством людей (и в первую очередь – мыслящих), даже не будет воспринят как относящийся лично к ним. И только какие-то специфические чудики, которые в рамках рефлексии и осознания собственной индивидуальности способны отнести этот вопрос непосредственно к себе, могут его рассматривать. Т.е. я надеюсь, что люди, которые приходят и больше чем один раз готовы слушать мои рассуждения про философию и мышление, вполне должны были бы относить этот вопрос лично к себе; и когда они слышат что-то про «мы», подумать – «так я же часть этого «мы» и это относится ко мне».
Поэтому я сейчас буду рассматривать или пытаться разбираться с этим вопросом или с вариантами ответа на этот вопрос именно во второй трактовке этого местоимения «мы», когда «мы» есть всего лишь собирательный термин для большой совокупности людей, для которых это вопрос может быть актуален. При этом, важная, и в контексте этих лекций очень содержательно-существенная деталь: мы-то уже знаем, – или по крайней мере те, кто внимательно слушал, знает – что я не могу соотнести мышление как таковое с одним человеком, мне несколько раз приходилось это повторять специально, что мышление интерсубъективно и нельзя говорить, что «я – мыслю». Это, вообще, неправильное употребление термина по существу своему, по содержанию. Потому что я могу участвовать в мышлении. А само по себе мышление – оно больше, чем один человек. И поэтому субъектом мышления выступают такие вещи, как институт философии в сформировавшемся виде, или что-то вроде той восьмерки позиций философов и практиков, которую я рисовал в первых своих лекциях. И, тем не менее, помня это, мы всё равно можем трансформировать или проинтерпретировать, понять этот вопрос как относящийся к самому человеку. Только с внимательным отношением к герменевтике, к пониманию этого всего. Наверное, сложно сказать по отношению к конкретному пассажиру из совокупности всех едущих в поезде: «Почему я не еду?». Когда, скажем, останавливается поезд, или автобус, наполненный пассажирами, кто-нибудь там, проснувшись, очнувшись от своих размышлений или фантазий, вдруг спрашивает – «а чего это мы стоим, а чего это мы не едем?». Понятно, что когда мы говорим, что «мы едем или не едем», и «мы мыслим или не мыслим» – между этими глаголами есть тоже существенная разница. Потому что невозможно одному пассажиру в автобусе, который остановился, не ехать. Хотя, в общем, обычное заблуждение человека…
Т.В. – Дело в фантазии J.
В.М. – Точно, я вот и вспомнил этот анекдот, который Денис рассказывал, про то, как три верующих христианина попали в ад. И по-разному интерпретируют жизненное обстоятельство, которое с ними случилось – или послежизненное – и они ищут объяснения: католик находит объяснение в соответствующих религиозных требованиях своей религии, пятидесятник в своих терминах находит объяснение, и только харизмат, согласно этому анекдоту, никаких объяснений не ищет. Он заявляет: «А я верю, что я в раю». Поэтому, конечно, полностью сумасшедший, сидя в стоящем поезде, может сказать: «Вы-то не едете, а я еду». И понятно, что аналогию с тем «А почему мы стоим?», которую невозможно вывернуть в отношении субъектности одного из пассажиров, впрямую нельзя отнести к интерсубъективности мышлению. То есть, если мы говорим и всерьез спрашиваем себя: «Почему мы не мыслим (ещё)?», то ответ на этот вопрос, отрицающий сам вопрос: «Но я-то мыслю, в отличие от других», кажется в большей степени осмысленным, в большей степени справедливым, чем варьяцкий, сумасшедший ответ пассажира на вопрос: «Почему мы стоим, почему мы не едем?».
Тем не менее, при этой большей осмысленности, мы должны понимать сходства и различия этих тезисов, относительно этого глагола. Действительно, глупо пассажиру стоящего поезда отвечать на вопрос: «Вы как хотите, а я-то еду», – потому что не от него это зависит. Но совсем не глупым было бы человеку, услышавшему: «Почему мы не мыслим?», сказать: «Вы как хотите, ну а я-то мыслю». Но что означает такой ответ? Он был бы справедливым или правильным ответом, имеющим право на серьёзное отношение к нему, только в том смысле, что человек тем самым заявлял бы о смене общности человеческой, с которой он себя идентифицирует. То есть, если мы говорим, что некая нация немыслящая, и по отношению к ней формулируем вопрос: «Почему мы, эта нация не мыслит?», а кто-то, кто по каким-то параметрам отождествляется с этой нацией, может заявить, что «нация не мыслит, но я-то мыслю» (опять же напоминаю: при удержании этого требования на интерсубъективность мышления, на то, что мыслить можно только коллективно) – такой ответ означает, что человек разотождествляется с нацией и идентифицирует себя с некой другой общностью людей. Например, он говорит: «Да, нация не мыслит, но интеллигенция мыслит». И тогда мы выделяем внутри нации какую-то дополнительную страту, дополнительную категорию людей и идентифицируем себя с ней, и по отношению к ней мы говорим, что этот ответ на вопрос, или, скажем, сам вопрос неосмыслен по отношению к этой группе людей, к этому собирательному термину «мы». Но такой локальный и частноутвердительный ответ на поставленный вопрос самого этого вопроса не снимает. Потому что, предположим, что произошла переидентификация человека, предположим даже, что эта общность, с которой он себя вторично идентифицировал, таки мыслит, но сам вопрос по отношению к большей общности, в которую эта маленькая общность инкорпорирована – он всё равно остается. И что толку от мыслящей интеллигенции, если её мышление касается только самой интеллигенции, если оно, скажем так, не «оплодотворяет», не относится к нации в целом? Значит какое-то мышление не то, и по отношению к этой большей общности по-прежнему актуальным является вопрос: «А почему же она не мыслит?». Я-то сам считаю, что интеллигенция вообще не мыслит, ещё меньше, чем какая бы то не была нация, но дело не в этом. Я для образца, для модели это рассматривал, потому что можно говорить не про интеллигенцию, а, например, про ученых. И тогда человек идентифицирует себя не с маленькой общностью, инкорпорированной в большую общность, а вообще с некоторой другой общностью. Он разотождествляется с нацией и отождествляется, например, с республикой ученых. Республика ученых по принципу своего формирования космополитична и не влезает в рамки какой-то одной нации. То же самое могут сказать какие-то конфессиональные группы, скажем, «Все не мыслят, а вот, например, пятидесятники мыслят уж точно, на разных языках», и так далее. Поэтому всякого рода такие уловки не являются ответом на этот вопрос.
И единицей рассмотрения, по отношению к которой мы вообще можем этот вопрос задавать, спрашивать себя и пытаться на него отвечать, всё равно, так или иначе, придется выбрать индивидуальность. Какие бы общности мы не брали, отвечать на этот вопрос придётся «раскручивая» отдельного человека. И тогда вопрос – от аналогии с ездой на поезде, с движением поезда – придётся ещё больше конкретизировать, скажем, до каких-то таких вещей: вот сейчас по Интернету прошлась информация, что Беларусь попала в десятку наименее религиозных в мире стран. И тогда мы спрашиваем: «Почему мы до сих пор не верим?» Заданный вопрос по отношению к нации, понятное дело, не распространяется на ту часть людей, которая всё-таки верит. Отвечая на этот вопрос, мы можем обращаться к конкретному человеку, понимая, что религиозность сама по себе (я даже не беру предмет или сущность термина «верить»), происходит от слова «религия» как «связь», «связывать». Один не может быть религиозным: и церковь, и религия предполагает связь между людьми и задается на этой связке, то есть она тоже интерсубъективна, как и мышление, которое я конструирую, строю в этих лекциях. Ещё лучший пример с образованием, функциональной грамотностью. Когда мы скажем: «Что ж мы такая необразованная нация?» – в принципе, мы можем говорить про это, тогда как даже в этой нации могут быть какие-то образованные персонажи. И чтобы исчерпать кучу примеров, добавлю ещё один: сейчас разгорелась дискуссия на «Нашем мнении» по поводу экспертов и экспертного сообщества, где несколько людей, имеющих весьма сомнительное отношение, скажем так, к экспертному сообществу, заявляют, что хреновое у нас экспертное сообщество и вообще экспертов нет, интеллектуальной инфраструктуры нет, ничего такого нет. При всей простоте, и даже справедливости этого тезиса, как-то хочется сразу этих людей обругать, хотя бы в силу того, что нет никакой новизны в том, что они говорят, с одной стороны, а с другой стороны – в общем, обидно. Потому что как это нет, когда есть, например. И кто-то может сказать: «Вы как хотите, но у меня и зарубежные связи и признание есть, и внутри всё в порядке и т.д., и нефиг ерундой маяться, а надо разбираться конкретно, с каждым конкретным экспертом, интелем и т.д.». И от этого никуда не уйдёшь. При всей справедливости заявления относительно страны в целом, это заявление является крайне несправедливым по отношению к целому ряду групп, коллективов, школ, направлений и т.д.
Так вот, когда мы говорим про мышление, весь этот набор глаголов, действий, процессов, который может быть распространён как на одного-единственного представителя, так и на некую совокупность людей, здесь применим. Потому что до тех пор, пока мы не имеем отчетливого понятия «мышление», – конструкции, схемы мышления – нам придётся работать с большим веером этих возможностей, с большим разбросом.
Так, я, наверно, немного перебрал с примерами, я сейчас буду уже ближе не к обоснованиям, почему я буду говорить про индивидуального человека, а к самому говорению, рассуждению про этого индивидуального человека. И вот здесь у меня самые большие трудности и наступают, про которые я говорил в начале сегодняшнего своего монолога. Трудности следующего порядка: мне очень тяжело определить те деятельностные параметры, которые могли бы быть индикаторами мышления или не-мышления, особенно применительно к индивидуальному человеку, к индивиду и, соответственно, индивидуальности. Тем не менее, два таких индикатора я сегодня хотел бы разобрать перед вами и попытаться про них говорить. Первый индикатор – это то, что связано с восприятием идей. А второй индикатор связан с онтологизацией, или наделением идей статусом существования. Я, наверно, плохо сформулировал эти два индикатора, но я надеюсь на вашу снисходительность, потому что, с одной стороны, я уже предупредил, что у меня здесь всё плохо, а во-вторых, я попытаюсь всё-таки в процессе рассуждения с этим как-то разобраться.
Наверное, каждому приходилось сталкиваться со случаями в коммуникации, когда Вы слышите или присутствуете при том, как возникает некоторая идея в коммуникации, но в то же время видите или тоже присутствуете при том, как кто-то из коммуникантов эту идею никак не схватывает. То есть она просто не попадает в пространство коммуникации. И тогда, чисто в бытовом разговоре, или в рефлексивных рассуждениях по поводу идущей коммуникации, разговора, люди говорят: «Ну, он же тебя не слышит!», или: «Разговаривают как два глухонемых». Каждый о своём, о девичьем, и, собственно, высказанные идеи не становятся объектом рабочего оперирования для тех людей, которые должны участвовать в разговоре. Это очень часто происходит, особенно с новыми идеями, которые не усвоены человеком в процессе образования, или с которыми человек сталкивается непосредственно в актуальной коммуникации.
Вот однажды на фестивале неформальной адукацыi у нас была мастер-класс Светы по поводу изготовления УМК. Разговор быстро от УМК перешёл на само гражданское образование и возник некий дискутант, который начал развивать некую психологистическую конструкцию, теорию. Я вижу, что всё, что говорилось до этого про гражданское образование, просто пролетает мимо этого человека. То есть у него какая-то записанная пластинка, и он может воспроизводить какие-то одни и те же вещи. И тогда его приходится останавливать не содержательно, а рефлексивно, или просто грубо останавливать, чтобы он не молол ерунду, повторяя то, от чего как раз в этой коммуникации мы ушли. Человек оказался, в общем, не обидчивый, поэтому, когда он понял, что его останавливают, он говорит: «А чего ж Вы мою идею не воспринимаете?» На что мне пришлось сказать, что как раз его идею мы не только воспринимаем, но знаем, уже прооперировали с ней целиком, и от неё отказываемся. И для того, чтобы он в это поверил, приходится эту идею изложить ему в более общем виде, так как он эту идею в таком виде изложить не может, он просто ею руководствуется в своём рассуждении. И весь фокус в том (те, кто были в той ситуации, на этом мастер-классе, помнят эту штуку), что я могу оперировать, манипулировать с его идей как с объектом умственного, интеллектуального оперирования, но противоположную идею, или идею, которая была там предметом коммуникации, схватил он или не схватил, у меня не было возможности проверить, но думаю, что, скорее всего, нет. И это очень часто происходит с новыми идеями, которые просто не воспринимаются.
С.М: – Владимир Владимирович, извините, что перебиваю, когда Вы говорите про восприятие, Вы в данном случае как какую функцию это рассматриваете? Как психическую или как коммуникативную, или как какую?
В.М. – Как интеллектуальную функцию, которая входит в состав процессуально описанного мышления. То есть как функцию мышления. Не психическую функцию.
С.М. – Как один из элементов этой конструкции мышления?
В.М. – Да. В этом смысле, это ничего общего с психологическим восприятием не имеет, кроме одной-единственной психологической трактовки, к которой я время от времени отсылаюсь. Это Вюрцбургская школа, школа Освальда Кюльпе. Оставаясь в психологической предметности, они исходили из того, что мышление – процесс психический, но они были дуалистами по отношению к самой психике и говорили, что есть набор эмпирических ощущений, восприятий и т.д., которые запускают какую-то психическую активность, тогда как мышление никакого отношения к этому не имеет; и у мышления есть свой вход, аналогичный сенсорике, куда попадают идеи. Поэтому они рассматривали элементы мысли как какие-то такие явления внешней среды, которые попадают на вход мышлению и там становятся источником активности самого мышления. Но это достаточно уникальная психологическая школа, и время её существования всего лет восемь. В общем, начинается это дело официально со статьи Карла Бюллера, точнее, со споров Карла Бюллера и Вильгельма Вундта в 1905 году, а в 1913 году Освальд Кюльпе умер, и школа как таковая распалась. В дальнейшем её представители, ученики Кюльпе пошли по своему пути, не продолжая традиции Вюрцбургской школы.
Так вот, когда я говорю про восприятие идей, я говорю о том, что позволяет разместить возникающую в коммуникации идею в пространстве рабочего оперирования с ней. То есть: я не просто услышал, но обдумал.
И в этом смысле, я мог бы, наверное, назвать два термина, которые могли бы обозначать то, что появляется на входе мышления – мышления как некой оформленной активности – то, с чего всё начинается. Это можно назвать идеей, и можно назвать мыслью. В данном случае мне это не принципиально, и я, наверное, буду пользоваться время от времени этими вещами почти в синонимическом смысле. Хотя понятно, что про идею я что-то проговаривал, и даже нарисовал свою версию того, что это такое, как оно выглядит, а про мысль я пока ничего не говорил, и поэтому это скорее как неопределённый синоним для идеи. При всём при том, что, наверное, мысль – это нечто большее, чем идея, то есть это идея уже после некоторых операций с нею, которые мы производим. Так вот, в данном случае я говорю про вот эту способность или возможность для участника коммуникации или для потенциального участника мышления восприятия идей, без чего никакое мышление невозможно, потому что: а с чем мы оперируем в мышлении, как не с идеями? И тогда, возвращаясь к материалу лекций, с одной стороны, а с другой стороны, к тому рассуждению, которое я сегодня здесь разворачиваю, я бы сказал, что вообще всё, что происходит с индивидуальностью в тот короткий промежуток времени, когда индивидуальность и идеи становятся сопричастны друг другу, и когда активность индивидуальности, её установки позволяют производить определённые операции с объектом мышления (то есть с мыслью или с идеей), является очень важным и ключевым моментом, без разворачивания и рассмотрения которого ничего про мышление понять невозможно. Это первая констатация, первый индикатор, про который я обещал говорить. Я назвал его в тезисах идеацией, и пока я этим термином и буду пользоваться.
Другая штука – это то, что связано с онтологизацией, или приписыванием идеям статуса существования. Потому что, понимаете, какая вещь: онтология и вообще всё учение о бытии – оно страшно заморочено и запутано предшествующими философами, там вообще существует куча всякого ненужного барахла. Мне во всей онтологизации важно нечто другое. Оно связано с тем, что, попросту говоря, существующий персонаж, существующий человек может иметь дело с тем, что существует, и не может иметь дело с тем, что не существует. Меня не интересует существование чего-то, примерно так, как это интересует детей, когда они сталкиваются с феноменом Деда Мороза. Вот для ребёнка на каком-то этапе жизни очень важно – Деды Морозы бывают или не бывают? До поры до времени дети с благодарностью принимают подарки от Деда Мороза, и готовы писать ему письма с заказами, но в какой-то момент им становится важным понять: их взрослые дурят или нет, деды Морозы существуют реально или не существуют? Вот меня такой вопрос совершенно не волнует. Но я чётко понимаю, что ребёнок, утвердившийся во мнении, что Дедов Морозов не бывает – это совсем другой ребёнок, чем тот, который всё ещё верит в Деда Мороза. И поэтому, вот этот статус существования чего-то для нас вообще является одним из главных элементов, организующих нашу деятельность и нашу работу. К тому, что существует, мы относимся одним образом, к тому, что не существует, мы относимся совершенно другим образом. И поэтому, онтологизация или приписывание статуса существования идеям, является вторым ключевым моментом, при разборе того, как мышление устроено, организовано, и вообще, является ключевым компонентом при ответе на вопрос: «Почему же мы до сих пор не мыслим?».
И тут, прерывая свои длительные размышления по этому поводу, я бы сказал: не мыслим мы потому, что не считаем мышление существующим, потому что мы его, в общем, не онтологизируем. Здесь я веду себя как пассажир стоящего поезда, который куда-то едет, не обращая внимания на всех пассажиров, которые беспокоятся и волнуются вокруг. На этом построена вся моя практическая деятельность, я об этом не раз говорил, но я и сейчас ещё раз повторю: когда я занимаюсь, например, аналитикой, я анализирую не расположение вещей относительно друг друга, а расположение мыслей относительно друг друга. Всегда в своей аналитике, прогнозировании, в построении планов и проектов на будущее, я работаю только с мышлением, только с мыслями и идеями, и мне плевать при этом на то, как расположены относительно друг друга вещи. В этом смысле, если вещи не соответствуют моим идеям – то тем хуже для вещей. И опять же, как показывает практика, успешность и достоверность моих прогнозов в таком отношении гораздо выше, чем тех, кто анализирует расположение вещей.
Опять же, забегая несколько вперёд, я скажу, что в этом и заключается тот самый радикальный идеализм – термин, который я вынес в название сегодняшней лекции. Но это я забежал вперёд.
Теперь я закончу ещё немного про онтологизацию, и скажу следующее: вся дурь, связанная с онтологией как направлением философской мысли, связана с тем, что глагол «быть» или «есть» берётся всякий раз в онтологии как предикат суждения, а не как оператор, квантор или связка в суждении. Поэтому для онтологии существенно не задавать вопросы: «Существует Дед Мороз или не существует?», «Есть Бог или нет его?», а для онтологии и вообще для всей онтологической работы существенным является вопрос «Чем есть то-то и то-то?». И поэтому глагол «быть» как модальный глагол во всех формах его существования, и вообще во всей его парадигме, со смысловыми какими-то конструкциями – «есть», «быть», «существовать» – является всего лишь пусть предикативной, но связкой. Онтология занимается не тем, что есть как таковое – есть или нет, а тем, что есть то, что есть, или к чему мы приписываем эту связку «быть» или «существовать».
С.М. – То есть она делает бытие, или статус бытия чему-то приписывает…
В.М. – Чем есть то, что есть. Вот стол, например – меня в этом смысле не интересует вопрос солипсизма или как у Джонатана Свифта – существует ли стол как таковой. Меня интересует, чем есть стол. Например, когда я говорю: «Стол есть мебель» – это онтологическое суждение. И осмысленные онтологические суждения – они возможны всегда только тогда, когда мы статус существования помещаем между «А» и «В» (рис. 1.1). «А есть В».
Рис.1.1.
Ещё раз повторяю: дурь онтологии как области философии состоит в том, что онтология долгое время пыталась решать вопросы суждений такого типа: «Есть ли Бог» (рис. 1.2).
Рис.1.2.
Или, говоря по-другому, в другой модальности, в модальности будущего: «А возможен ли капитализм, коммунизм?» и т.д. «Можно ли построить коммунизм?» или «Существует ли коммунизм?». Или ещё что-нибудь такое. До тех пор, пока существует такая конструкция, ничего путного онтология дать не может. Все вопросы упираются в иррациональные или фантазийные вещи. Настоящая онтология занимается вопросами полного онтологического суждения. Тогда вопрос бытия, возможности и т.д., размещается между частями суждения: «А» и «В» (рис. 1.3).
Рис 1.3.
И поэтому, вопрос «Есть ли Бог?», согласно Канту, не имеет рассудочного, рационального ответа, и поэтому должен признаваться относительно рассудка и рациональности дурным вопросом. А вопрос «Что есть Бог?» или «Кто есть Бог?» – совсем другая штука. На него можно отвечать рационально, по отношению к нему можно построить теологию, и т.д. Точно так же, как и про что угодно другое: про идеальное равномерное движение или про пресловутое разделение властей. Когда мы спрашиваем: «А существует ли разделение властей? Вот три ветви власти существуют, а разделения властей не существует. Как оно может существовать, если они взаимосвязаны и т.д.?» – это дурная онтологическая постановка вопроса. Правильная онтологическая постановка вопроса: «Разделение властей есть принцип». И уже тем самым мы дали онтологический ответ, и этот ответ уже много чего значит. Тогда: где искать разделение властей? Не в беларусском законодательстве и не в беларусской практике правоприменения – там его точно искать не надо. Онтологический вопрос обращает нас к той действительности, в которой мы ищем соответствующие ответы. Или, например: «Существует ли литвинская нация, или литвинская общность?» – глупый вопрос. А вот «Что есть литвины?» – совсем другое дело. И тогда мы задаём область существования литвинов, или ещё кого угодно.
Надеюсь, что это понятно.
Т.В. – А вот как бы всё это выражение, или область существования всего этого – она ведь всё равно лежит в идеальном плане, в пространстве идеального, да? Целиком?
В.М. – В идеальном плане, конечно. Там, где разворачивается мышление.
С.М. – Но ведь большей частью, онтология она как бы изначально…
В.М. – Татьяна, я, наверное, неправильно ответил на твой вопрос, мы не завершили тогда онтологическое разбирательство с этим вопросом.
Ещё раз. Вот эта полнота онтологического суждения – она лежит в идеальном плане, но в идеальном плане не в той исключительно части, где идеальный план как бы изолировано (рис. 2.1), но чтобы мы могли разместить его в идеальном плане, нам нужна полнота (рис. 2.2)…
Т.В. – Зачем полнота? «Разделение властей – есть принцип». Область существования принципа, который приравнивается к разделению властей, не имеет никакого отношения к нижней части. Или я чего-то не догоняю.
В.М. – Вот смотри, какая штука. Когда я сказал про разделение властей как про принцип, я задал область существования.
Т.В. – Точно. И где эта область существования?
В.М. – Тогда возвращаемся к большей конструкции – напомните мне, как это рисовалось на той лекции, где я обсуждал следующее: для того, чтобы работать с идеями, нам нужен атрибутивно-эмпирический комплекс, то есть сначала феноменальность, а потом этот комплекс и там, кроме всего прочего, я рисовал задачу или установку (рис. 3.1).
Рис.3.1.
Так вот, когда я говорю, что «разделение властей есть принцип», я размещаю это суждение во всём этом пространстве – это есть география пространства, в котором я размещаю мышление – но, онтологизируя его как принцип, я его помещаю в установку. Что значит: «разделение властей – это есть принцип»? – это означает регулятив к действию. И тогда, я его ищу не здесь (рис. 2.2 – «внизу»), и не только здесь (рис. 2.2 – в ИП), потому что здесь (в идеальном плане) я могу нарисовать всё, что угодно. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я сказал: «Да, конечно, в идеальном плане», но потом понимаю, что для того, чтобы правильно понимать мой ответ, нужно восстанавливать всю картинку (рис.3.1).
Так, на чём я остановился?
Т.В. – На онтологизации.
В.М. – Надеюсь, что я, остановившись на этом пункте, пока могу закончить про онтологизацию, потому что я сейчас опять вернусь к идеации, и начну раскручивать идеацию, если вы ещё не выдохлись. В общем, вроде не должны, потому что ещё только час прошёл.
Т.В. – Как Вы это определяете?
В.М. – Ну, потому что эмпирически я знаю, что способность хоть что-то ещё слышать и воспринимать, она где-то на рубеже двух часов, в этой аудитории и по отношению к этим лекциям.
Итак, значит, возвращаясь к идеации – здесь много всяких разворотов могло бы быть – но мне сейчас очень важна эта постановка вопроса, которую я задал термином «восприятие идей», и восприятие идей каким-то образом оборачивает, или наворачивает меня в отношении индивидуальности, или аппарата восприятия, субъекта восприятия. И здесь для меня опять же существует полная неясность вещей, которые я собираюсь говорить. То есть, мне есть что сказать, но оно плохо оформлено. Поэтому, повторяясь, я прошу снова снисходительности в отношении того, что я могу опять же не с того конца начать, и мне поэтому придётся к чему-то возвращаться. Так вот, одним из важнейших обстоятельств восприятия идей, или идеации как помещения чего-то, возникшего в коммуникации, как идеи в пространство оперирования с идеями, является деиндивидуализация.
Это очень важный момент, потому что я уже в предшествующих лекциях положил индивидуальность как совершенно необходимый компонент конструкции, из которой собирается мышление, а здесь мне приходится говорить про деиндивидуализацию. Но деиндивидуализация в данном случае рассматривается как технический приём, или как особого рода действие, без которого мы не можем разместить некоторую идею в пространстве оперирования.
Да, наверное, я оговорюсь здесь ещё следующим образом, здесь тоже некоторые вещи у меня не додуманы – это я поймал себя на том, что я неправильно ответил на вопрос Водолажской. Сейчас у меня, наверное, опять будет такая синонимия, двусмысленность: когда я говорю про идеальный план, я буду говорить иногда и чаще всего про сам идеальный план как место во всей этой конструкции, а иногда я буду говорить про идеальный план, имея в виду, что это место уже в конструкции, то есть про всё вот это с идеальным планом (рис.2.2). Потому что всё вот это может быть и без идеального плана. И здесь важна вот эта оговорка, что идеальный план – это рабочее пространство, это верстак мышления, на котором разворачивается собственно оперирование с мыслью и идеей.
Так вот, для того, чтобы высказанная или рождённая в коммуникации идея превратилась в объект мыслительного оперирования, то есть стала мыслью, для этого необходима эта самая пресловутая деиндивидуализация. Причём, оговорившись, что я могу несколько плавать в последовательности, я уточню, что, конечно же, это не первое условие, и не первая процедура, не первый технический приём, который необходим. Но он для меня важен, по крайней мере, в силу того, что я про это чуть больше понимаю, чем про другие компоненты, и уж тем более, чем про всю последовательность процедур, которые необходимо проделать для того, чтобы ввести возникшую в коммуникации идею в пространство мыслительного оперирования.
Итак, здесь я, размышляя на эту тему, понял, что наверное, наилучшим примером, или наилучшей областью, на которой можно разбирать деиндивидуализацию вот в этом плане рассмотрения восприятия идей является суд, суд как таковой.
Суд как таковой – в идее, не только «беларусский суд – лучший в мире», но ещё лучше в этом смысле годится американская судебная система, ещё лучше, наверное, годится для этого инквизиция, которая, собственно, и была предназначена для работы с идеями, как мне кажется, и поэтому это одно из величайших изобретений схоластов, и поэтому процедура инквизиции потом была положена в основу многих методов науки как таковой. И вот я сейчас попытаюсь на этом примере суда попытаться разобраться с идеями, с идеацией, тем более что в данном случае идеация как нельзя лучше связывается с онтологизацией.
Приходит истец и выдвигает некоторое обвинение в сторону обвиняемого. Что делает обвиняемый – ну, вот в каком-то из возможных вариантов судебного разбирательства – обвиняемый, или тот, кого обвиняют в каком-то деянии, зло-деянии и т.д., может выставить возражение (рис.4.1).
Рис. 4.1.
То есть, кто-то говорит: «Ты украл». На что другой говорит: «Нет, я не крал». Один говорит, и другой говорит. Есть судья (рис.4.2), которому необходимо – вот что собственно необходимо сделать судье?
Рис. 4.2
Поскольку есть две тяждущиеся стороны, то может быть такая версия суда, что суд сидит и размышляет над тем, чью сторону занять. Эта версия суда возможна, но есть и другая версия: судья в этом месте не стремится занять ту или иную сторону, отождествится с одной из сторон, а его задача – восстановить справедливость. Не занимая ни одной из сторон. И тогда: в чём состоит работа судьи? Я сейчас не беру набор процедур и т.д., я фактически могу сказать, что работа судьи в этом смысле состоит в восстановлении чистоты идеи, независимо от атрибутивно-эмпирического комплекса, который за этой идеей стоит.
С.М. – То есть справедливость в данном случае – это как идея?
В.М. – Да. Но мало того. Мало того, что справедливость – идея, то есть он (судья) уже работает в мышлении, он обязан работать в мышлении, если мы придаём этому такую трактовку, что судья не становится на сторону одной из тяждущихся сторон, а его задача – охрана или восстановление справедливости. Что такое восстановление справедливости? Восстановление справедливости означает в данном случае, что эту справедливость мы ищем не здесь (на рис. 3.1 – в феноменальности или в АЭК?), а мы как бы понимаем, что здесь её нет. А откуда мы берём эту справедливость? Если мы берём её из головы судьи, и пытаемся восстановить её где-то здесь (рис.3.2) , то тогда – какая же это справедливость? В этом смысле справедливость должна быть интерсубъективна (рис. 3.3). То есть она не должна быть справедливостью судьи и справедливостью одной из тяждущихся сторон. Справедливость в этом смысле – чистая идея. Но она уже там присутствует, как первая идея (рис.3.4).
Но если бы справедливость была бы идеей, данной на все времена раз и навсегда, то судью можно было бы выучить и дальше пускать во все эти места, чтобы он ходил и – как Лукашенко газ проводит в деревни – в каждую деревню проводил бы справедливость. Вот до этой деревни дотянулась ветка справедливости, потом до следующей дотянулась ветка справедливости. Нет. Оказывается, со справедливостью, с восстановлением справедливости так нельзя.
Для того, чтобы восстановить справедливость, нам необходимо обязательно работать ещё и с другой идеей: с идеей украденной коровы, например (рис.3.5). Или возьмём Соломонов суд по поводу тяжбы двух женщин, претендующих на одного ребенка. Значит, надо восстановить, кто является матерью ребёнка. Что при этом делает Соломон, грубо говоря? – Ведь он в суде восстанавливает идею материнства. Мало того, что он принимает справедливое решение – для этого он посажен как судья – но, кроме того, он судья, который рассматривает дела о краже коров, лошадей, убийствах, прелюбодеяниях, и т.д. Ну, короче, про всякие грехи. А тут обратите внимание, даже непонятно, в чём состоит грех. Есть ребенок, есть две претендентки на то, чтобы быть матерью этого ребенка. Можно вызывать тех, кто свечку держал, пытаться ещё какие-то такие вещи устанавливать.
Но в это время у Соломона нет экспертизы ДНК, нет там ещё чего-то и т.д. И поэтому ему нужна другая идея, и он мыслит, он заботиться об этой идее. Более того, эта идея настолько далека от этого самого атрибутивно-эмпирического комплекса (рис. 3.6), что даже если бы существовала в то время экспертиза ДНК, он бы к ней не прибегнул.
Потому что его идея совершенно в другом, она абсолютно идеальна в этом смысле. Он восстанавливает идею материнства как таковую. Но тогда смотрите, какая штука: что делает судья в данном случае? Он должен точно абстрагироваться от своих установок, от каких-то атрибутов реальности, эмпирики и от всего того, что он знает про вещи как таковые. Он не может на основании симпатии или антипатии к одной из тяждущихся сторон принять это решение: передать ребёнка на воспитание лучшей матери, например, выяснив, кто из них там лучше, ну и т.д., тем самым как бы восстановив справедливость (в отличие от многих современных судов, которые примерно такими вещами и руководствуются, решая разного рода вопросы об опекунстве детей и т.д.)
Так вот, суд в данном случае есть такая процедура, при которой судья должен за кучей рассуждений, суждений, мнений по поводу атрибутивно-эмпирического комплекса восстановить идею, и уже разбираться с этой идеей, оперировать этой идеей. То есть он восстанавливает идею материнства, после этого запускает эту идею в реализацию. Предлагает разрубить ребёнка, грубо говоря. Возможно ли для судьи, даже для царя – мораль судей и царей разная, от царей почему-то ожидают, что они могут казнить, на плаху посылать и т.д. и т.д. – но даже от царя в данном случае не ожидается решение, направленное на убиение ребёнка. И при этом, это предложение могло возникнуть у судьи, – или не у судьи, а в идеальном плане – только тогда, когда можно абстрагироваться от конкретного эмпирического ребёнка, когда он работает с чистой идеей.
Вот эта вещь мне здесь очень важна. Если бы он в своих размышлениях в этот момент думал бы о ребёнке, о его возможной счастливой или несчастливой судьбе, если бы индивидуальность ребенка, индивидуальность матерей, тяждущихся за этого ребёнка, или собственная индивидуальность с её эмпирическими атрибутами самого Соломона присутствовала там в этом во всем – вынести такое мнение на доску и оперировать с ним, а потом предложить его реализовать было бы невозможно.
Поэтому пример с судьей, с любым судьей на самом деле – Соломон это просто такая древняя притча, про которую можно так рассказывать – по большому счёту любой судья находится в таком положении. И всё, что делает с собой судья, – он как бы убирает свою индивидуальность из непосредственной коммуникации, из непосредственной ситуации, в которой он оказывается. И, в общем, для этого у судьи есть целый ряд всяческих технических процедур. Начиная с гипертрофированного и преувеличенного требования на уважение к суду, то есть буквально, если доводить всё это до логического конца, – нечеловеческого уважения к институту. И тогда обращение к нему «Встать! Суд идёт» – идёт какой-нибудь замухрышка, или какая-нибудь толстая неопрятная дама, или что-нибудь в этом роде. Но это идёт суд. Институт, но не человек. И всякие другие простейшие этикетные атрибуты, которые там выполняются, но главное даже не в этих этикетных процедурах, а в той работе, которую производит судья.
Примерно та же самая ситуация и в науке. Ну, вот кто это – Оксана рассказывала? Или Татьяна? Про тётку на конференции, которая рассказывала про белорусов, которые там чего-то делали или не делали.
Т. В. – Вы про что?
А.Е. – Тут недавно про капусту звучало.
В.М. – Ну про капусту там и т.д. Про идентичность там или ещё про что-то…
Т. В. – А, это была не конференция, это было про что, что треть беларусов стыдятся, что они беларусы.
В.М. – Вот-вот. И она спорит с этим, выдвигая аргумент: блин, что вы такое говорите, я-то не стыжусь. В этом смысле вся процедура, весь научный метод познания предполагает запрет на такого рода верификационные процедуры. То есть познание научной истины требует обязательной десубъективации, деиндивидуализации. И это вообще такая святая непреложная истина научного метода вплоть до двадцатого века. В двадцатом веке появляется такой француз венгерско-еврейского происхождения Мишель Полани, который в двадцатые годы пишет книжку «Личностное знание». Ну, Полани был ещё более-менее адекватным человеком, поэтому он просто-напросто подчёркивал элементы индивидуальности в процедуре научной работы. Тогда как интерпретаторы после прочтения этого всего вообще гипертрофировали это личностное знание, в результате чего оно стало фактически отрицанием наличия идеального плана как такового.
Точно так же как, скажем, в религиозном методе трактовка того принципа, что Бог – он внутри нас. Опять же, это местоимение «мы», вместо продумывания и интерпретации того, что это означает, однозначно понимается как собирательный термин, и, значит, «внутри нас» – это значит «внутри каждого из нас». Поэтому Бога помещают не вовне, во внешний мир, а в сердце, душу и т.д. И люди начинают искать Бога вот там, а там ничего – селезёнка, печень и прочая «вантрабянка». А другие начинают по-другому субъективировать, тоже дают субъективную трактовку, говоря, что там, где двое собрались во имя его, там и Христос с ними, и это означает, что Бог внутри нас – это мы обязательно должны собраться вместе, чтобы Бог там присутствовал. Опять же Бог размещается не там, где ему положено быть – в трансцендентальном мире, за пределами мироздания, а внутри некого сообщества людей. Ну, и прочие какие-то вещи.
И в этом смысле субъективация или индивидуализация, или – как это сказать – индивидуалистичность знания, работы и т.д. является полной противоположностью идеации как таковой. Для того чтобы вывести возникший ответ на рассогласование логического употребления терминов в качестве субъекта и предиката разных суждений (про что я говорил в лекциях про идеи), и запуск этого ответа в пространство идеального плана, где с ним можно оперировать, производить процедуры с учётом этого всего и памятью обо всём этом пространстве, мы получаем субъективную разборку или коммунальные отношения между несколькими субъектами (рис.4.3).
Рис. 4.3
И в этом смысле деиндивидуализация заключается в том, что каждый из носителей того или иного знания, которое выражается в логических суждениях, за каждым из которых стоит атрибутивно-эмпирический комплекс, и которые на основании этих разных комплексов, разного жизненного опыта, разного субъективного опыта, разных рабочих, деятельностных или игровых установок выносят и сталкивают между собой фактически разное знание – они носители этого знания (рис. 4.4)…
Рис. 4.4
… а судья, или тот, кто приспособлен к восприятию идей, должен выключить свою индивидуальность, выключить эти индивидуальности и разместить эти ответы в виде идей в пространстве идеального плана. Но для того, чтобы эту процедуру проделать, ему необходимо научиться радикальному сомнению. То есть ему необходимо научиться особого рода отношению к знанию.
Приходит один человек и говорит: это моя лошадь, а он её украл. Если мы начинаем, абсолютизируя знание, выяснять факты или ещё чего-нибудь и т.д. и т.д., то мы запутаемся и дойдем до предела относительности. Где тот конец, при котором мы можем сказать, что знание о том, кому принадлежит лошадь, кто является матерью этого ребёнка и т.д., на эмпирическом уровне достаточно? Нет такого конца. Поэтому, разбираясь с тяжбой на суде, человек должен быть готов к радикальному сомнению, то есть он должен специфическим образом относиться к тому знанию, которое стороны поставляют в суд в качестве аргумента в свою пользу. Поэтому деиндивидуализация – как главный компонент этого всего, но до деиндивидуализации обязательно радикальное сомнение, а после деиндивидуализации, наверное, ещё много чего.
Но туда я уже, наверное, не полезу на сегодняшний день, я проговорил про эти процедуры. И сейчас с идеацией я на этом пока остановлюсь, но, по крайней мере эти два момента в идеации необходимы: радикальное сомнение – первый, и второй – деиндивидуализация.
Т. В. – Как всё это относится к индивидуальности? Ну, Вы говорили, что это возможно… ну это какие-то характеристики индивидуальности: вынесение, идеация, индивидуализация…
В.М. – Ну, а к чему это еще можно отнести?
Т. В. – Ну, я не знаю…
В.М. – Нет, ну я вроде бы всё…
С.М. – То есть это (неразборчиво), после которого наступает идеация, да? Или как?
В.М. – Нет, ну давайте я начну с начала.
С.М. – Проведение границ каких-то нужно.
В.М. – Я пришел на лекцию и стал говорить, что я буду отвечать на вопрос, почему мы до сих пор не мыслим. Дальше я разбирал местоимение «мы» и обосновывал тем самым, почему я сегодня буду говорить о человеке. Но я не умею говорить о человеке как таковом. В контексте этих лекций человек для меня представлен индивидуальностью – «смотри предшествующие лекции». Поэтому я говорю про индивидуальность. Про то, из чего собирается тот конструкт, о котором я тоже говорил в последней или предпоследней лекции – мышление.
А.Е. – Что-то мне… Просто вот о соотношении индивидуальности как необходимого компонента в оперировании идеями, порождении индивидуального плана, со всеми этими аспектами и требованием деиндивидуализации при порождении…
В.М. – Не при порождении, при идеации, при восприятии идей. Индивидуальность в этом смысле – я мог бы обострить этот тезис: если мы со своей индивидуальностью носимся как с писаной торбой, выставляем её вперед, не мы являемся хозяевами индивидуальности, а она хозяйничает над нами, то идеи нам становятся недоступны – говорю я. То есть судья, сохраняющий свою индивидуальность в суде, не может выносить…
А.Е. – То есть тут как бы две индивидуальности – одна образца… ну когда ты те лекции читал, а вторая – образца этих лекций.
В.М. – Обе.
А.Е. – Обе, а когда ты сейчас говоришь про деиндивидуализацию, то это скорее близко…
В.М. – К первой.
А.Е. – Ну да, к первой. Личностной там какой-то. Когда же мы говорим про расщепление этой индивидуальности на три части – на рефлексию и… то это скорее про вторую.
В.М. – Конечно. Но, тем не менее, я не вижу здесь противоречия, я говорю, что я про обе говорю, хотя в большей степени процедура – а я оговаривал это уже сегодня, что я говорю сегодня про деиндивидуализацию как про процедуру, такой специальный рабочий момент – то это относится в первую очередь к тому смысловому комплексу, который стоит за той трактовкой индивидуальности образца 1997-го года, на лекцию о которой я ссылался и говорил всем с ней ознакомиться. Я же от неё не отказывался. Но как любая процедура, она конечна и временна. Индивидуальность восстанавливается, когда мы переходим к онтологизации. То есть для того, чтобы воспринять идею и начать с ней оперировать, мы должны провести эту самую деиндивидуализацию, и поэтому любой судья должен восстанавливать справедливость. Не я, сидящий на этом месте, но суд. Я – всего лишь инструмент этого суда. А значит, любой другой судья на этом месте должен был бы сделать то же самое. И поэтому без идеального плана – уже в этом узком смысле – без доски, на которой оперируют, суд вообще не возможен. Поэтому вы любые законы в Беларуси примите и даже подарите судьям квартиры, а не поселите их в служебных квартирах – вы не получите суда, потому что отсутствует идеальный план и мышление. Без мышления нет справедливого суда.
Но теперь: судья получил некоторую идею – идею маленькую, локальную, связанную с конкретным прецедентом того, что одна колхозница украла у одной единоличницы курицу. Тем не менее, даже по отношению к таким простейшим вещам нам нужна идеация и работа с идеей – с идеей восстановления справедливости и с идеей вот этого конкретного случая, который надо разместить в идеальном плане и вынести решение. Но теперь, когда мы эту идеацию произвели – мы имеем дело с идеей даже в этих простейших случаях, не говоря уже про более сложные случаи, когда мы имеем дело не с идеей украденной курицы или ещё чего-нибудь. А с идеями типа нации, литвинов, социализма с коммунизмом или, наоборот, открытого общества или разделения властей – там возникает новая заморочка: а не Дед ли Мороз это всё? Разделение властей и прочее, и прочее: не является ли это фантомами сознания?
Вот, например, в теоретической физике и математике есть такое выражение: это уравнение математически точно, но не имеет физического смысла. Многие построения ума и многие рассуждения даже на уровне идей могут наталкиваться на это сравнение: если уж оно радикальное, то оно и здесь срабатывает. А имеет ли физический смысл, говоря вот этим языком, всё то, к чему мы пришли? Хорошая идея – разделение властей. Только на хрена оно кому-то нужно? Если можно всё сосредоточить в одних руках, выбрать справедливого президента и он как царь Соломон нас не обидит. И вот здесь наступает процедура, при которой начинает действовать принцип Протагора: человек есть мера всех вещей, существующих в том, что они существуют, и не существующих в том, что они не существуют. Мы должны вернуться к индивидуальности, которая уже саму себя кладет в пространство идеального плана, на рабочую доску, и выставляет как критерий существования и несуществования.
Что является доказательством существования интеллектуала в Беларуси? – Я. Что является доказательством существования экспертизы в Беларуси, или этих всех вещей, о которых Водолажская пишет, возражая Френкелю с Пикуликом и т.д.?[1] И они, между прочим, это признают, в этой дискуссии, помещая меня с командой отдельно. Другим команда не приписывается, но они всё равно вынуждены с этим считаться. Что является главным онтологическим аргументом? Согласно Протагору, главным онтологическим аргументом является человек. Что является главным аргументом, определяющим в суде Соломона, какая из двух женщин является матерью? Только решительность Соломона – если бы Соломон был болтуном и имел плохую репутацию в народе, кто бы ему поверил, что он готов был разрубить этого самого ребёнка.
И поэтому, возвращение к деятельности как сигнал завершающегося мышления в виде онтологизации, предполагает, во-первых, восстановление индивидуальности, второе – как минимум, я опять же многих вещей, многих процедур не знаю и не могу пока подробно про это говорить – это восстановление полноты онтологического суждения с некоторой гарантией, которая может быть только индивидуальностной гарантией: «зуб даю» (рис. 5).
Рис. 5
Т.В. – Но тогда она находится не в верхнем этом плане, ну вот это вот гарантия, полнота и всё остальное.
В.М. – Не здесь (на рис. 3.6 – идеальный план)?
Т.В. – Ну, если Вы говорите о мире действий, возможности показать пальцем на человека.
В.М. – Я говорю только о работе здесь (на рис. 3.6 – в идеальном плане). Работа-то вся здесь производится.
С.М. – Вопрос в том, что оно как бы то разотождествляется с тобой, то схлопывается…
Т.В. – Ну, то, с чем схлопывается – оно же не там!
В.М. – Об этом помнится (на рис 3.6 – субъект, АЭК, феноменальность – в общем, вся конструкция кроме идеального плана), но работа вся здесь (на рис. 3.6 – в идеальном плане). Это была забавная реклама про этих самых «M&Ms», которые шастают возле елочки и один другого спрашивает: «Слушай, а Дед Мороз существует?» – «Откуда я знаю, до сих пор не видел.» Тут – «бум», Деде Мороз – хлоп в обморок. В данном случае, что является доказательством существования Деда Мороза? – Обморок. J Один доказал, а другой не смог. Для него вопрос остаётся подвешенным. Но как бы смех смехом, но смотри…
Т.В. – Обморок – он же где?
В.М. – Опять двадцать пять. Дед Мороз существует?
Т.В. – Не знаю. Я же не M&Ms. Для меня и обморок M&Ms как-то не очень. J
С.М. – Надо упасть в обморок тогда.
В.М. – Слушайте, давайте вернёмся к Соломону. Как по-вашему, Соломон точно определил, какая из этих двух женщин родила предмет спора?
Реплики – Нет.
Т.В. – А он не с этим работал.
В.М. – Точно. Поэтому, какого чёрта ты мне тыкаешь сюда?
Т.В. – Нет подождите. У него же…
В.М. – Он работал с идеей материнства.
Т.В. – Ну да.
В.М. – Почему я говорю про радикальный идеализм. Не надо вам вот этого всего (на рис. 3.6 – феноменальность и АЭК), потому что даже квантор бытия – он ставится здесь (на рис. 3.6 – в идеальном плане), потому что, что там (на рис. 3.6 – феноменальность и АЭК) – хрен его знает. И там вот это продирание сквозь атрибутивно-эмпирический комплекс конца и края не имеет. Что является доказательством возможности полёта аппаратов тяжелее воздуха?
Т.В. – Полёт аппарата тяжелее воздуха.
В.М. – Выживший.
Т.В. – Ну ладно, и что?
В.М. – А то, что на тот момент нарисовать конструкцию всяческих полётов аппаратов можно было много. И если бы эти аргументы сводились только к эмпирике – это было бы одно.
Т.В. – А выживший — это не эмпирика?
В.М. – Вот смотри: прежде чем выжить, он должен был в это поверить и взлететь. Были такие, которые верили и взлетали, но не выживали. И поэтому они ничего доказать не могли. Но…
Т.В. – Какая разница – эти верили, и эти верили, а выживший – он не в том мире, он в этом, физическом.
В.М. – Он выиграл.
Т.В. – Ну и что?
В.М. – И помните этот наш спор про онтологию игры, про мышление как игру или деятельность и то, о чём мы препирались? Я пока не имею ответа на прошлогодние споры, но на данный момент, в рамках этой лекции я говорю про это. Во-первых, я не отождествляю мышление ни с деятельностью, ни с игрой как таковой, я должен их разводить определённым образом. Говоря про мышление, и в том числе про философствование и онтологию, я должен говорить, что статус существования или полнота онтологического суждения задаётся в идеальном плане, а вот руководство в деятельности и игре – оно считывается с идеального плана. И мы себя определённым образом ведём – и погибаем или не погибаем и т.д. Но когда взлетел человек на самолете, то почему он взлетел, почему он на это пошёл? – Потому что он произвёл онтологизацию самолёта. В эмпирике, имеющемся прошлом опыте, он никогда этого видеть не мог, а те случаи, которые он видел или про которые слышал, заканчивались плачевно. Начиная с Икара и заканчивая теми придурками, которые с колокольни бросались с крыльями. И тем не менее, он поставил статус существования, придал статус существования конструкции, на которой он взлетел, выжил – и всё в порядке. Но перед тем, как он полез – я не могу назвать его взгромождение на эту этажерку – мышлением. Это уже не мышление, по крайней мере, само взгромождение, но без мышления оно невозможно. Если мы говорим исключительно о мышлении, то тогда мышление возможно только в режиме радикального идеализма. Ну, вот собственно на этом я закончил, наверное, сегодня. Вопросы, реплики, замечания?
А.К. – У меня появилась такая ассоциация, когда Вы рассказывали про курицу, которую соседка могла упереть у своей соседки, вот по поводу не онтологизации, а деиндивидуализации… с вещью как таковой. Например, чисто эмпирически это может быть разное – украсть курицу или позаимствовать несушку у одной из соседок. То есть здесь, наверное, о чём говорится – отношения, в которые вовлекается и курица, и берущая женщина, могут быть разными. В одном случае это кража, а в другом обмен и т.д. Можно ли в этом смысле рассуждать о деиндивидуализации как отвлечении от конкретной женщины и конкретной курицы, но не отвлечение от куриц и женщин как таковых, т.е. они могут быть вовлечены только в один конкретный тип отношений, с которыми потом можно в отдельности работать?
В.М. – Нет, я не говорю сейчас про абстрагирование, я говорю про деиндивидуализацию. Если бы сейчас здесь сидели юристы, знающие юридическую практику, то они бы мне больше вопросов позадавали по этому поводу. Ну, например: чем руководствуется судья, вынося вердикт? – Он руководствуется, например, мнением присяжных.
А.Е. – Законом и социалистическим правосознанием.
В.М. – Основывается – не руководствуется, но основывается – на вердикте, вынесенном присяжными. А присяжные чем руководствуются?
А.Е. – Исключительно социалистическим правосознанием.
В.М. – Где ты видел при социализме присяжных?
Т.В. – Капиталистическим правосознанием J.
В.М. – Они руководствуются внутренней убежденностью – их убедили или не убедили. В этом месте юристы бы сказали, что это противоречит тому, что ты говоришь, потому что их внутренняя убеждённость никак не предполагает деиндивидуализацию. Враньё, – говорю я – всё равно предполагает. Но предполагает не на уровне присяжных. Присяжные не обязаны мыслить. Мыслить обязан судья. И судья, опираясь на процедуру, которая состоит в коллегии присяжных, он специально её (коллегию присяжных) для себя создает, для того чтобы снять, стереть свою индивидуальность. Он передает эту функцию другим, специальной коллегии – куче людей. И таким образом, процедурно осуществляется деиндивидуализация судьи. Можно опять же начать возражать, сказать, что это подлые капиталистические американские судьи специально придумали коллегию присяжных, чтобы снять с себя ответственность, сохранить судейскую зарплату и ни за что при этом не отвечать. Нет, – говорю я – это специальная процедура деиндивидуализации судьи, потому что америкосы, придумывая свою конституцию двести с лишним лет назад, уже много чего понимали про мышление в отличие от тех, кто руководствуется социалистической законностью и коммунистическим правосознанием.
Д.Г. – Слушайте, а вот с игротехниками – тоже так надо деиндивидуализировать?
В.М. – В общем, да. Поэтому как ведет себя нормальный руководитель игры – он смеётся над плачущими игротехниками. У игротехника не должно быть эмоций. Он смеётся не потому, что ему смешно, а он таким образом осуществляет процедуру стирания индивидуальности с игротехника. Но это там, где игротехник как функция, и поэтому у вас даже шутка была на второй Гёттингенской игре со снятием шкурок, одеванием шкурок и т.д. Потому что вы ходите постоянно, как народные танцоры, с таким устройством – вешалка в чехле и костюм там – вот сейчас беларус, а вот сейчас космополитичный гламурный человек. Так и игротехник. Пришёл в группу, снял индивидуальность, повесил перед входом и пусть повисит пока. Из группы вышел, идёшь на рефлексию игротехническую, одеваешь индивидуальность…
Д.Г. – … и сразу плакать J.
Т.В. – У меня вопрос с восстановлением индивидуальности. Она в чём? В придании онтологического статуса тому, что происходит в идеальном плане?
В.М. – Специально для тебя я так и скажу. Что такое индивидуальность тогда, после всего того знания, что мы получили на этой лекции?
Т.В. – Что такое восстановление индивидуальности?
В.М. – Индивидуальность – это тот мир, который существует. Грубо говоря, он конституирует мою индивидуальность.
— ???
В.М. – Я думал, что я что-то умное сказал. Понимаете, мне трудно с вами общаться, потому что вы все люди юные и до моих седин не дожили. Потому что если бы я попросил вас вспомнить, что вы делали 19 августа 1991 года?
А.Л. – Телевизор смотрели.
О.Ш. – «Лебединое озеро».
В.М. – А вот в этом месте, собственно говоря, был вызов онтологизации как процессу деятельности, и отвечать на него можно было только индивидуально. Объявляется ГКЧП, в стране нет власти, Горбачев там и т.д. и т.д. И вы для себя отвечаете на вопрос – а что существует? И что есть? Иллюзорное ГКЧП, а реальный Горбачев, власть и т.д.? Или наоборот – всё то уже нереально и его нет, а реально вот это: семь серьёзных мужиков, сидящих за столом на фоне «лебединого озера» и т.д. И каждый для себя отвечал. Тогда: что есть индивидуальность? Индивидуальность есть ответ на проблему ГКЧП. Ну, как можно было ответить на ГКЧП? Только через восстановление этого суждения – «что реально?».
Д.Г. – Так получается, что индивидуальность конституирует мир, а не мир конституирует индивидуальность.
В.М. – Наоборот.
Т.В. – Получается из того, что Вы говорите, что происходит деиндивидуализация, потом здесь (на рис. 3.6 – в идеальном плане) происходит какая-то работа (в частности здесь восстановление этого суждения – что реально), потом индивидуализация – как бы перенесение, если мы уже ставим квантор существования, и перенесение этого тогда уже на человека. Да?
В.М. – Расширение этого всего до мира человеческого, да.
С.М. – Владимир Владимирович, а можно вообще обсудить с процессом идеации. Это вообще какой-то специфический процесс и что является его результатом, это не одно и то же, что идеализация?
В.М. – Вот смотри, ты сегодня нарезала бумагу ножницами. Есть такая штука – резанье. Чтобы резать, нужны листы какие-то, и нужен такой инструмент, где два конца, два кольца и посередине гвоздик. Мы этим можем резать, правильно? Ну а автогеновую горелку ты видела, а что она делает?
С.М. – Режет.
В.М. – Режет. Или сваривает. Ты можешь ножницами сваривать листы разрезанной бумаги?
С.М. – Зачем?
В.М. – Ну, не можешь, как бы я не ответил тебе на вопрос зачем. А автогеновой горелкой можно и резать, и сваривать. Тогда спрашивается: резанье в одном случае и в другом случае – это одно и то же? Так вот и про идеализацию и идеацию. Почему мне нужен специальный неологизм, специальное такое слово? Потому что я, говоря про идеацию, абсолютно не говорю про абстрагирование, например, обобщение, дедукцию и т.д. – я говорю про мышление. Мышление в той конструкции, которую я вам рассказывал. Для того, чтобы это всё удерживать, нужно восстанавливать содержание всех тех лекций, которые я городил в прошлые разы. Поэтому я не мыслю мышление без индивидуальности, но идеация в этом месте, она… Дальше я возвращаю к вопросу, который задал мне сегодняшнюю тему лекции «Почему мы до сих пор не мыслим?», и всё то, что я рассказывал про «мы». Когда описывается идеализация или процедура абстрагирования, они описываются как логические. А я как это делаю? Я их ввожу не как логические, а как минимум как деятельностные, как игровые, как мыслительные. Логика туда входит, но таким незначительным компонентом. Поэтому мне приходится говорить про восприятие идей, но тогда – как только я говорю про восприятие, должен думать про приёмник. А кто воспринимает? Дальше я говорю следующее, что идеи возникают в коммуникации. Я рассказывал про то, как возникают идеи в коммуникации на целых двух лекциях. Но после этого я говорю: ну, вот возникли идеи, но почему-то одни идеи схватывают, а другие не схватывают. Это очень важно мне для ответа на вопрос «Почему мы до сих пор не мыслим?» – а я отвечаю на этот вопрос. Тогда начинаю рассказывать, как происходит восприятие идей. Для чего мне восприятие? Не для того, чтобы воспринять и охренеть от воспринятой идеи, а для того, чтобы идея дальше стала объектом оперирования. Где мы оперируем с идеей? Не тут (на рис. 3.6 – АЭК), говорю я. Мы там (на рис. 3.6 – в идеальном плане) с идеями оперируем. При всём при том, что, как я уже рассказывал, идея, как солнечный зайчик, пронизывает все эти плоскости. Она и там, и там, и там, но эти вещи (на рис. 3.6 – феноменальность и АЭК) – когда она проецируется как солнечный зайчик на другие плоскости, другие пространства – они меняются под влиянием этой работы (на рис. 3.6 – в идеальном плане). Поэтому всю эту работу я называю идеацией. То, как мы, восприняв идею, начинаем ею оперировать. И когда мы оперируем с идеей, мир меняется. Не потому что мы работаем с этим миром, он меняется в плане того, что, если я работаю в идеальном плане, восстанавливаю это суждение, говорю, что аппараты тяжелее воздуха летать могут. Существует полёт аппаратов тяжелее воздуха. И если я это проделал, после этого я могу сесть на самолёт, потому что я уже поставил знак существования там (на рис. 3.6 – в идеальном плане). Я этого никогда не видел, поэтому туда (на рис. 3.6 – АЭК) глядеть мне не надо. Если я туда погляжу, я сразу потеряю онтологический статус этого высказывания.
С.М. – Нет, это понятно, что туда не надо.
В.М. – А идеализация вот этого всего не предполагает, поэтому я и называю это идеацией. Для идеализации достаточно абстрактных конструкций. Ну, например, весь социализм построен на идеализации, а вот открытое общество и разделение властей надо делать на основе идеации и онтологизации. При всём при том, что когда строили социализм – там тоже люди мыслили, там тоже была идеация, а потом, когда это суждение стало восприниматься как Дед Мороз, т.е. как означаемое с нулевым объёмом значений, стали тыкать на Швецию и говорить: «Смотрите, социализм же возможен». Но они стали тыкать (на рис. 3.6 – АЭК), думая, что здесь можно найти обоснование для онтологизации социализма. Фиг вам. Там его найти нельзя. С другой стороны, открытое общество – никуда ткнуть нельзя, чтобы сказать: «Вот общество открытое». Нет такого. Точно так же, как разделение властей. Про что американские фильмы? Пятая часть американских фильмов про зависимость судебной власти от мафии, от исполнительной власти или ещё от чего-нибудь, про коррупцию, т.е. особые формы зависимости законодательной власти от исполнительной. То есть куда вы ни ткните в атрибутивно-эмпирический комплекс, найдёте опровержение существования этих вещей. И, тем не менее, мы говорим: «А они, сволочи, существуют». И открытое общество существует, и Беларусь существует. И без индивидуальности, и без этих процедур деиндивидуализации, а потом возвращения индивидуальности никак. Поэтому с индивидуальностью в данном случае – это процедура. С человеком так обойтись нельзя. Если вы или какой-то чайник, прочитав эти лекции, например, скажет, что индивидуальность Мацкевича – это человек вообще, то как я должен трактовать в этом смысле термин «деиндивидуализация»? Представляете себе? Обесчеловечивание. Вот этого делать не надо. Но в этом смысле специфическая работа с идеальным планом предполагает такого рода процедуры. Вот что мне хотелось сегодня важного вам сказать. Ещё есть вопросы, реплики, замечания?
А.Е. – Мирошниченко любит найти что-нибудь в конце и сказать, что такая фигня была у товарища такого-то. Я вот тоже нашёл, не совсем знакомую картинку, там было немного по-другому, но правильно ли я понимаю, что индивидуальность возникает как некий ответ или обращение к реально существующим идеям в идеальном плане?
В.В. – Нет. Вот смотри, какая штука. Ты о своём, о девичьем, о разрешении проблемы номинализма и реализма, или что?
А.Е. – Нет, я просто так услышал и в моем слышании это мне напомнило, что я где-то читал у Альтюссера про то, что личность, индивидуальность, субъект как таковой возникает как ответ на призыв, обращённый к нему идеологией. Когда ты рассказывал про события 19 августа 1991-го года – они обращались, но не они как эмпирически существующие, а как некоторые идеи: демократии, советского общества. И надо было отвечать на эти идеи, и в этом ответе и проявлялась индивидуальность какая-то у человека.
В.В. – Ну, она проявлялась, да. Проявлялась, но я-то не делаю акцент на проявлении индивидуальности в данном случае. Во-вторых, я, наверное, не такой умный и талантливый как Альтюссер…
А.Е. – Луи.
В.М. – Луи, тем более. Мне далеко до этого Луя. Я говорю более простые вещи, как мне кажется. Хотя хрен его знает…
А.Е. – Ты просто какой-то такой момент проговариваешь про мир, который является основой существования, существование мира является основой для существования индивидуальности.
В.М. – Всего того, что прошло процедуру онтологизации. Грубо говоря, когда я говорил про 19-е августа, я говорил: Янаев – он Дед Мороз? Янаев есть Дед Мороз, т.е. то, чего нету. А что есть? Есть Ельцин, есть Горбачев или есть Янаев? И собственно, кто я? Я тот, который живет в мире, в котором Янаев не существует как и Дед Мороз. Или я тот, который существует в мире, где Янаев тот, который сурьёзный мужик. Но это никак не отрицает существование самих идей Янаева или ГКЧП. Я не отрицаю существование этих идей. Мне вообще по барабану, идеи бывают разные, существующие и несуществующие. Более того, говорю я, и факты бывают разные – существующие и несуществующие. Один говорит, что он украл, другой говорит, что он не крал. Оба говорят факты. Буду я с этим разбираться!
А.Е. – Подожди, так индивидуальность – это получается функция определённого набора существующих вещей.
В.М. – Миров.
А.Е. – Миров, идей и т.д. Существующего.
В.М. – Да. Но понимаешь, какая штука, если по отношению к вещам – то вообще вопрос о существовании бессмысленен. Нельзя задавать онтологические вопросы по отношению к вещам. Иначе это глупо. Иначе это как анекдот про Свифта и епископа Беркли. Сомневаться в существовании внешнего мира, говорил Шопенгауэр, могут только идиоты. Солипсизм – это мировоззрение идиотов. Я сижу на стуле. Я могу сомневаться в том, что есть стул, но не в том, что я сижу на нём. Поэтому онтологические вопросы – они не относятся к вещам. Они только к идеям.
Дальше, существует ли идея универсалий? Глупо. Конечно же, существует. Потому что люди за них жизнь кладут. Пуго вообще застрелился какого-то там августа. И тогда сказать, что это было совершенно несуществующее что-то? – Нет. Если люди кладут за это жизнь, значит, есть за что. И когда Лукашенко говорит: «Оппозиции у нас нет» – он знает, что говорит. И ни один оппозиционер не может сказать: «Лукашенко у нас нет». Понимаешь? Два, казалось бы, равных высказывания. Вот стоит подсудимый и вот обвиняемый, или два тяждущихся субъекта – Лукашенко и Лебедько. Лукашенко говорит: «Какая оппозиция, вы чего? Нет, отморозки есть» – он же не отрицает существование Лебедько? – Не отрицает. Он отрицает существование оппозиции. А что такое оппозиция? Это идея. Может сказать Лебедько, что Лукашенко нет? Не может. Точно так же как Лукашенко не может сказать, что Лебедько нет.
О.Ш. – А сказать, что президента нет, он может?
В.М. – Тоже не может. Мышление… Вот логически эти обёрнутые высказывания идентичны. С логической точки зрения и то, и другое можно сказать. Но как только мы начинаем решать вопрос онтологизации и идеации – фиг вам.
А.Е. – Существовал период, когда Лукашенко не был президентом.
В.М. – Было такое. Я сам тогда такое говорил, и в «Вызывающем молчании» про это написано. Про то, как Лукашенко в троллейбусе ехал.
А.Е. – Но он закончился 9-го сентября 2001-го года. Ему новый мандат выдали.
В.М. – У меня тоже иногда бывает, что я проездной забуду купить, но на следующий месяц я его покупаю. Понятно?
Т.В. – Про проездной – понятно.
J J J
В.М. – Без проездного посадят в кутузку и всё, а всё остальное – это такие мелочи. Поэтому, Андрей, я сейчас не решаю проблемы идеализма и реализма, и не решаю проблемы номинализма и реализма и т.д. Я говорю более узкие, простые вещи, но до такого Луя Альтюссера я не дошёл. Ещё вопросы, реплики, замечания? Нет? Спасибо.
В следующий раз – лекция.
[1] Имеется в виду дискуссия на «Нашем мнении» – прим. ред.