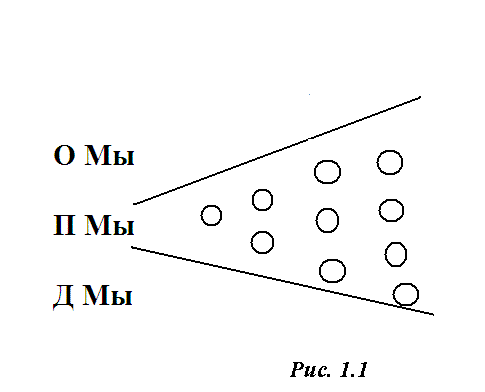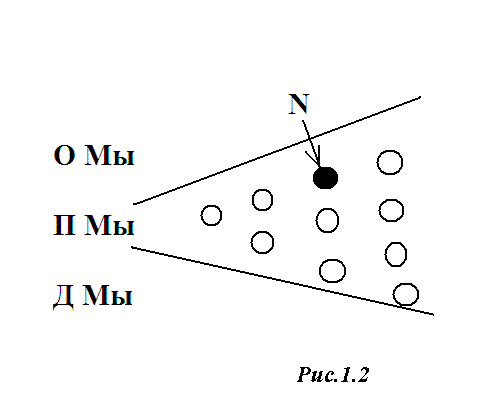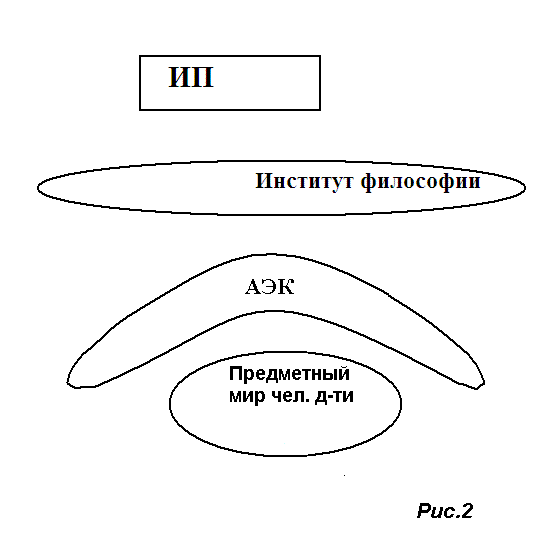Введение в философию. Лекция 11. К конструированию мышления
29 января 2009 г.
В.М. – Владимир Мацкевич
Т.В. – Татьяна Водолажская
А.Е. – Андрей Егоров
А.М. – Андрей Мирошниченко
С.М. – Светлана Мацкевич
Л.К. – Леонид Калитеня
Д.Г. – Дмитрий Галиновский
В.М. – Надеюсь, что большинство присутствующих на лекции знают дилемму, с которой я собираюсь сегодня начинать. Ещё раз напомню, что затянувшийся переход к обсуждению мышления отчасти связан с тем, что в предшествующих лекциях мне хотелось задать основные конструктивные моменты, для того, чтобы из них начинать складывать некое конструктивное представление о мышлении. Предстоящие несколько лекций будут посвящены именно мышлению как таковому, и сегодня мне хотелось бы к этому подступиться.
Начну я как раз с очерёдности вопросов, которые мы можем задать про мышление, потому что в зависимости от очередности этих вопросов – какой из данных вопросов задается первым, а какой вторым – определяется и то, как мы берём и схватываем мышление. Перед тем, как их сформулировать и задать (хотя формулируются они просто), нужно сказать, вернувшись к истории философии, что в истории философии мышление называлось несколькими именами, несколькими терминами, и каждый из этих терминов отражал то или иное представление о мышлении. И началось, наверное, всё с того, что некоторыми философами осевого времени, мудрецами осевого времени мышление бралось и представлялось как один из элементов построения мира. В частности, когда физики милетской школы обсуждали первоосновы, из которых складывается мир, то первые их предложения этих первооснов были целиком физические. Скажем, милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен как её наиболее яркие представители), затем (из той же ионийской философии) Гераклит – они брали в качестве первооснов мира какие-то стихии. Может, это в меньшей степени относится к Анаксимандру, который предлагал в качестве первоосновы, первоэлемента некий апейрон. Что это такое и с чем его едят, достаточно трудно восстановить в силу отсутствия достаточных текстов Анаксимандра, но апейрон – это ближе к тому, что потом Левкипп и Демокрит полагали как атом в качестве первоосновы мира. Но в силу своей формальности они брали не стихию, которая чувственно как-то схватывается и присутствует в опыте, и из нее выводили как-то структуры оставшегося мира, а некую формальную категорию. Наверное, можно предполагать, что апейрон для Анаксимандра – это такая формальная штука, как атом для Левкиппа и Демокрита. Это потом уже в науке Нового времени атом стал неделимой частичкой вещества, тогда как для Левкиппа и Демокрита, для древних греков, атом – это то, что просто неделимо, то, что не может быть дальше уменьшено, от чего нельзя что-то отщепить. То есть это скорее умопостигаемая вещь, чем физически ощущаемая или вещественно присутствующая.
Так вот, упоминавшийся мной уже на раз в первых лекциях Анаксагор в качестве такой первоосновы мира полагал нус. Нус – это, наверное, тоже одно из историко-философских названий, имён мышления. В качестве другого имени можно вспомнить греческий логос во всём многообразии его значений. То есть, с одной стороны, логос как корень слов логика или наоборот, висология, со значением, напоминающим наше представление о разуме. Другое значение слова логос обозначает скорее именно слово (когда, например, написанное по-гречески Евангелие от Иоанна, начинается со слов, «в начале был логос», то, как правило, это переводится как «в начале было слово»). Хотя само по себе значение слова логос шире, чем просто «слово». Кроме того, мышление называли разумом, интеллектом, умом и т.д. Мудростью, в конце концов. Все эти названия так или иначе указывали на область поиска, или на то, что является искомым в рассуждениях про мышление. И когда (вслед за Анаксагором) нус, или (вслед за Иоанном) логос мы кладём в основание мира, или выводим из него как из основания весь мир – это уже однозначная онтологизация, субстанционализация мышления. То есть мышление мыслится как некая вещь или субстанция, по отношению к которой справедливо спрашивать: а что это такое, как оно выглядит, как оно устроено, как оно есть.
Затем эта традиция обсуждения мышления «как оно есть» восходит уже к Новому времени, когда в попытках построить некую систему мира Декарт или Спиноза тоже начинали с субстанционального подхода, полагая, например, в декартовском дуализме, мышление как одну из двух субстанций, из которых состоит мир (материя и мышление). У Спинозы это сводилось к свойству, одному из двух свойств субстанции. Спиноза не полагал мир двойственным, двоичным, дуалистичным, а единым, монистичным, но противопоставлял два атрибута этого мира, который он называл разными именами, но практически с синонимичным значением: то есть он мог говорить «Бог», мог говорить «природа» – и это было одно и то же. Так вот, эта единая субстанция Спинозы имеет два свойства: мышление и протяжённость. И в этом качестве мышление рассматривается уже не как самостоятельная субстанция, а как свойство этой субстанции. Но по отношению к этому свойству, фундаментальному и смыслообразующему, возможны практически те же самые процедуры и операции, что и по отношению к субстанции как таковой. Можно интересоваться тем, как оно есть – мышление как свойство – в чём оно состоит, как оно устроено и т.д.
И практически – я, по крайней мере, в силу своей безграмотности, в силу недостаточного знания – не могу найти в истории философии, в истории человеческой мысли такого времени, когда рассуждение про мышление начиналось бы с некой логической постановки вопроса, с некоей логической постановки проблемы. Практически вся философия на протяжении своей истории имела дело с мышлением под разными именами, но как с уже имеющимся знанием, как с тем, про что мы рассуждаем уже после кого-то другого, включая даже те первые наброски, попытки как-то задавать представления о мышлении. Потому что тот же Анаксагор, положивший мышление в основание строения мира, был достаточно поздним по греческим понятиям мудрецом, то есть человеком, который занимается предфилософией. (Как вы помните, сама философия начинается с Сократа, сознательно объявившим себя не мудрецом, не софистом, а только любителем мудрости.) И уже тогда Анаксагор имел дело с изрядным куском культуры, накопленным греками, с рассуждениями или утверждениями про мышление. По крайней мере, с описательными рассуждениями, когда греки описывали некоторых мудрецов, или с квазирелигиозными, когда они в качестве небесного патрона выдвигали богиню мудрости Афину, или даже специальную какую-то мелкую богиню, целиком отвечающую за эту мудрость, которую потом подхватили уже в христианстве, или в христианствующей философии под именем София.
Соответственно когда я говорю, что подходы к мышлению, наше схватывание мышления определяется последовательностью вопросов, которые мы задаём по отношению к нему, то это реконструкция абсолютно логическая, а не историческая, т.е. не имеющая отношения к истории. В истории так никогда не было, в истории всякий философ, всякий мыслитель, который начинал рассуждать о мышлении, уже имел дело с неким обширным и прочным, развитым или приблизительным и контурным представлением о мышлении. А если обнулить всё наше знание и вернуться к радикальному сомнению на чисто техническом уровне (как в своё время делал Декарт по отношению к бытию), и попробовать представить себе, что мышление для нас есть всего лишь некая идея, отвечающая на рассогласование двух суждений (эта идея, как вы помните, мною выводилась в лекциях как бессодержательная и пустая) – вот когда мы выдвигаем эту идею – мышление, тогда мы в праве спросить себя: а что это такое, как оно устроено, как оно функционирует и т.д. Если мы задаём этот вопрос, то мы обязательно попадаем в лапы субстанционализма и так или иначе овеществляем, субстантивируем мышление, начинаем иметь дело с мышлением – в своём подходе, в своей мысли – как с тем, что существует. Существует практически объективно без нас, вне нас и т.д. И первое, что мы можем сделать по отношению к такому мышлению – мы можем начать его изучать, изучать как нечто объективно положенное. Я бы ни в коем случае не стал бы отрицать целиком и полностью такое представление о мышлении, которое возникает при задании этого первого вопроса. Потому что существует некая такая вещь, к которой мы апеллируем, к которой мы взываем, когда начинаем рассуждать и рефлектируем это рассуждение, или относимся к этому рассуждению.
Но существует и другая постановка вопроса, которая не исходит из того, что мы спрашиваем: что это такое и как это устроено. А мы с самого начала спрашиваем себя: как мы мыслим, как вообще надо мыслить, как мыслить правильно. Как только мы спрашиваем таким образом, то мы понимаем, что такой вопрос не может относиться к субстанции, существующей сама по себе. Вот как мы можем спросить, например, про землю, про солнце, ну или про что-то более текучее, процессуальное – про воду, воздух и т.д. Как течь воздуху, или как ещё что-нибудь делать? В этом смысле вопросы про то, как мы мыслим, как мыслить правильно сродни целому ряду других вопросов, которые мы задаём про то, что мы делаем: как, например, мы ходим, как мы читаем. И по отношению ко всем такого рода вопросам мы можем конкретизировать этот вопрос до того, как читать правильно, как ходить правильно. И тогда возникают разные школы ходьбы – как это ходьба на подиуме называется? – дефиле, или ещё какие-то способы ходьбы. Как читать правильно? И возникают разного рода представления о том, как читать, чтобы запоминать, или как читать, чтобы быстрее читать и прочитывать больше книг и т.д. Но как только мы задаём этот вопрос первым, то после этого глупо спрашивать в субстанциональном, реиматическом залоге: а что есть чтение? И даже если мы такой вопрос ставим, то есть сначала спрашиваем себя: а как правильно читать, а для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам надо разобраться с тем, что есть чтение – в любом случае, когда этот вопрос задаётся вторым, мы начинаем рассматривать чтение как некий процесс, как некое умение, некие предписания. И мы понимаем, что в зависимости от того, как мы организуем чтение, тем оно и будет. Если же мы сначала спрашиваем о том, что есть мышление, что есть чтение, то мы начинаем понимать тогда, что оно есть независимо от этого всего, и тогда правильное или неправильное чтение, зависит не от того, какие правила мы для этого создадим, положим, сконструируем, а они выводимы из некоторого объективного значения ответа на этот вопрос, что есть чтение, что есть ходьба.
Надеюсь, что эта, с одной стороны простая, а с другой стороны сложная мысль на этот момент времени понятна. И моё утверждение состоит в том, что от последовательности этих двух вопросов зависит наше отношение, наш подход к мышлению. Вопрос о том, что есть мышление и только потом, как мыслить правильно, является очень традиционным и с моей точки зрения ошибочным. Потому что тогда за всем этим маячит эта самая пресловутая субстанция мышления, объективно данная, кем-то сотворённая или, для материалистов – возникшая вместе с природой, или на каком-то этапе развития природы и материи т.д., но тем не менее, мы изучаем мышление как нечто ставшее не зависимо от нас. Другая последовательность, когда мы спрашиваем сначала: а как мы мыслим, и как мыслить правильно, а потом, отвечая на этот вопрос, мы задаёмся вопросом, а как оно устроено (мышление) – такая последовательность позволяет нам относится к мышлению как к тому, что мы сами и создаем, то есть люди создают своими усилиями, и в этом смысле мы берём мышление не как субстанцию, а как технику. Как конструкцию, которую можно собрать и которая может потом функционировать. После того, как она собрана – по определенному плану, по определенному замыслу, или без плана и замысла, но, тем не менее, с некоторой логикой, – мы можем начать и изучать её, точно так же как можем изучать всё созданное человеком.
Например, изучают же люди искусство или архитектуру. Понятно, что архитектурные сооружения – это не природные объекты, которые возникли сами по себе, поэтому изучать их так, как природные объекты, нельзя. То есть, нельзя спрашивать: по каким причинам из простейших перекрытий и потолка возникли купола, какова была их эволюция. Такого не бывает. Когда мы видим природные сооружения – заходим в пещеру, и видим там чудесные своды, которые человек при всём желании сотворить не мог – мы можем спрашивать себя: а как они возникли, вода ли размыла, тектонические сдвиги, или ещё что-то произошло. По отношению к архитектуре мы задаёмся другими вопросами: а каков был замысел архитектора, каково назначение тех или иных деталей конструкции и т.д. Потом мы можем доходить до вопросов: а как это вообще держится, как это возможно. И только после этого мы начинаем обращаться к некоему природному знанию – знанию о природе камней, дерева, материалов, знанию геометрии и т.д.
Так вот, с мышлением мы должны обходиться не как со сводами пещеры, а как со сводами арок, куполов и т.д., то есть как с тем, что собрано и создано людьми, а не существует само по себе. Это очень важно и из этого вытекает целый ряд различных, очень фундаментальных, вещей.
Скажем, если мы рассматриваем мышление как субстанцию, то в мышлении должно быть нечто единое, инвариантное, независимое от того, кто мыслит, как мыслит, в какую эпоху и т.д., то есть и древние греки, и китайцы, и мы должны мыслить в каком-то смысле инвариантно, несмотря на разницу языков, времён, культур и прочее. Если мы относимся к мышлению как к технике (в первом залоге вопрошания), соответственно: как правильно ездить на мотоцикле, как правильно вышивать крестом, как правильно ходить, как правильно читать, как правильно мыслить – это всё технические вопросы, за которыми стоят процессы деятельности. Уже потом, имея отношение к этим процессам как к деятельности, мы начинаем их субстантивировать вторичным образом, наделять их каким-то объективным статусом. После этого мы спрашиваем: а как устроен мотоцикл, на котором нас научили ездить, и можно ли научить человека правильно ездить на мотоцикле, если не рассказать ему про устройство мотоцикла.
Тут вчера была Елена Тонкачева, и помимо делового разговора, упомянула, что она недавно стала владелицей домика (как и у всех НГОшных лидеров, на Голубых озерах). И домик ей достался с чудесной печкой, а она не может пользоваться этой печкой. У печки три отделения и они связаны между собой всякими переходами и там несколько задвижек. Их там, в общем, три, но для юриста Тонкачевой три задвижки, когда надо какие задвигать – очень трудно сообразить. Поэтому когда её учили: вот эту задвигаешь, эту отодвигаешь, эту оставляешь, как есть – она никак не могла запомнить последовательность этих действий. В конце концов сообразила и говорит: я могу это запомнить, если буду знать, как это устроено. Поэтому сделайте мне чертеж этой печки в разрезе, и тогда я буду знать, куда чего задвигать. На что мужики ей говорят: ты что, баба, с какого дуба свалилась, чтобы сделать разрез твоей печки, её надо разобрать, а если мы её разберем, она больше функционировать не будет. Поэтому тебе придется обходиться без разреза, а просто запомнить. Понять этого нельзя, это надо запомнить, какие задвижки куда выдвигать-задвигать.
Так вот, с мышлением примерно такая же штука: когда мы начинаем чему-то учиться, иногда нам требуются чертежи в разрезе. Мы можем спросить себя: «как правильно читать?», маленький ребенок, который приступает к обучению чтению, может спросить себя об этом, но мы не можем ответить на этот вопрос, пока не изложим алфавит. И иллюзия, которая возникает у людей в период, когда они получают ответы на такие простейшие вопросы, состоит в том, что затем, полученные в качестве предварительных ответов или в качестве доказательств леммы ответы типа алфавита, начинают приниматься ими за нечто существующее в мире, или как то, что представляет собой единственный образ или единственный план того, о чём вопрошается. Поэтому ребёнок, научившийся читать после изучения алфавита, некоторое время думает, что все языки устроены именно таким образом, соответственно, и чтение может быть только буквенным, слоговым, таким как в индоевропейских языках, и только потом ему могут объяснить: знаешь, парень, бывает не только буквенное письмо, но и, например, иероглифическое, или через пиктограммы, или ещё каким-то образом. И что языки могут быть устроены в соответствии с письмом и чтением. Поэтому для того, чтобы читать, европейцу нужно точно знать европейский язык, предварительно на нём разговаривать и аудировать, то есть говорить и слышать. Соответственно, в случае с иероглифическим письмом такой способности вовсе не требуется: для того, чтобы читать по-китайски, нет необходимости знать мандаринский или ханьский диалект. То есть можно разговаривать на живых языках, которые совершенно не похожи друг на друга, и не понимать ничего, но читать одни и те же тексты, одни и те же книги, можно даже писать письма друг другу. Поэтому последовательность вопрошания и последовательность отвечания на те или иные вопросы задаёт не только освоение тех или иных умений, но и навязывает некое устройство мира. Всё, что мы знаем и думаем про мышление, так или иначе навязано этой неконтролируемой последовательностью вопросов и ответов, которые мы себе сознательно или несознательно задавали, когда слушали ответы.
Вот опять же, очень забавная была ситуация с Андреем Шутовым, когда он после первых лекций рассказывал мне, что задумался на лекциях о том, что такое мышление, и, будучи не согласным с тем, что я тут рассказываю, он решил инвентаризировать: а что же он сам представляет по этому поводу, какой у него есть ответ на эти вопросы, которые я тут задаю. И пошел искать в литературе, в библиотеке или где-то ещё, где можно искать эти ответы. И обнаружил, что тексты Сергея Леонидовича Рубинштейна как нельзя лучше соответствуют его, Шутовским, представлениям о мышлении. Я на это похохотал, и в ответ спросил: а что первично? Если он обнаружил у Рубинштейна ответы, которое его устраивают, потому что оказывается, он и сам так думал, то что первично в этой инвентаризации его собственного представления о мышлении: то, что он прочитал в других книгах или то, что он сам придумал, или то, что Рубинштейн всё правильно и объективно описал про мышление и т.д.? По-моему, ответа на этот вопрос о первичности я не получил – основной вопрос философии о первичности – и куда-то Шутов пропал после этого (я надеюсь, что это не в связи с этим разговором, а по каким-то другим причинам).
Но, тем не менее, это остаётся вариантом моего видения и представления – то, что мы знаем и понимаем про мышление, является навязанным нам вот этой последовательностью вопрошания, вопросов и ответов на эти вопросы. Соответственно, что первично, что вторично в этой последовательности вопросов и ответов – нужно разбираться всякий раз. И думаю, что ответы приходят раньше вопросов, которые мы можем сформулировать. Когда это происходит таким образом, мы вообще становимся заложниками описания мира. Это термин, который Карлос Кастанеда вкладывал в уста дона Хуана, когда дон Хуан, по описанию Кастанеды, развенчивал представления о мире у юного Кастанеды, совершая постоянно какие-то фокусы или ставя Карлоса в какие-то сложные ситуации, из которых следовал какой-то фантастический и неожиданный выход. И дон Хуан всегда хихикал и говорил: ну а почему собственно то, что случилось с тобой, ты воспринимаешь как нечто необычное, из ряда вон выходящее? На что Карлос всегда отвечал: на а как же, иначе и быть не может, мир же так устроен. А дон Хуан спрашивал: что ты можешь знать о мире, если тебе передано описание этого мира и ты живешь в этом описании, не в самом мире, а в его описании? И вот сюжет Кастанеды выглядит как: Карлос оказывается в ситуации, которая внешне выглядит достаточно обычно, но в ней происходят какие-то необычные вещи. Это его вырубает, у него, что называется, крыша едет, и единственный способ выйти из этого состояния — это сесть и записать, что с ним произошло. Но от этого не проходит удивление, не проходит вот это состояние необычности сознания. Ему очень трудно примириться с необычными результатами, которые получаются в обычных ситуациях. И это является основанием для дона Хуана сказать, что описание мира, членом которого ты являешься, не абсолютно, не «верно».
И вот все мы, так или иначе, являемся членами этого культурного описания мира, когда – в частности в привязке к мышлению – мы можем сказать, что всё, что мы знаем и думаем про мышление, вообще может не соответствует действительности, какой она есть, а мы как тот Карлос являемся членами в описании его. Как Шутов, например, является членом глобального заговора психологов, которые представляют мышление неким соответствующим образом. И поэтому, даже не задаваясь специально этим вопросом, человек из разных источников – контрабандой – получает обрывки каких-то знаний, но будучи введённым в это описание мира, дальше он может получить нужные ответы на любые поставленные им вопросы.
Ну вот, немножко увлекаясь герменевтическими штучками, я потоптался по пониманию, а теперь возвращаюсь к исходному тезису.
Итак, мышление – в моём подходе, по крайней мере, в моём представлении – есть конструкция или техника, которая может, конечно, под собой иметь некие неконтролируемые нами основания, вещи естественного происхождения, но эти вещи естественного происхождения не имеют отношения к сути техники или конструкции, потому что являются всего-навсего конструктивными элементами, из которых мы складываем эту конструкцию.
Например, мы можем считать, что у любого движущегося или самодвижущегося механизма, будь то машина на паровой тяге, или на бензине, или на электричестве, должны быть колеса. Если мы сталкиваемся с резиновыми надувными колесами на велосипедах, на современных автомобилях и т.д., мы не должны абсолютизировать этот конструктивный элемент в некотором его естестве и предполагать, что для физических устройств автомобиля, или некоторого самодвижущегося механизма, колеса должны быть непременно резиновыми. Ведь паровозы по рельсам бегают иногда без резиновых колёс, танки двигаются без резиновых колёс, ну, а «колёса» в старых телегах были вообще больше похожи на подкованные копыта лошадей, чем на современные колёса.
Точно так же с любой техникой, с любой конструкцией, в зависимости от того, каким мы берём принцип схватывания, сочетания, сочленения конструктивных элементов, таким же, или соответствующим ему, будет принцип выбора материала конструктивных элементов. Поэтому мышления должны быть разные, в зависимости от того, как они сконструированы. И в зависимости от того, какие мышления мы имеем в виду, и самый первый вопрос тогда, правильный вопрос «Как мы мыслим?» должен задаваться по отношению к тому, с каким мышлением мы имеем дело. Понимаете, можно спросить, как мы ходим, как правильно ходить. Обычно такой вопрос в обыденной ситуации не вызывает, скажем так, каких-то метафизических размышлений. Когда я спрашиваю – как мы ходим? как правильно ходить? – у 99% слышащих такой вопрос, наверное, даже не возникает встречного вопроса: а на скольких ногах мы должны ходить? Одно дело хождение на двух ногах, а другое дело – когда у человека отрезали ногу, а ходить надо учиться. В этом смысле обучение, даже такие простейшие вещи, предполагают вариативность, не говоря уже про другие технические вещи, например: как научиться водить некоторые транспортные средства? Водительские права не дают возможности водить, например, вертолёт. Даже лётчик, который умеет управлять самолетами, не всегда управится с вертолётом. При этом вождение вертолёта вовсе не предполагает умение ездить на двухколесном велосипеде и т.д. Ответ на вопрос о том, как нечто правильно делать, зависит от той конструкции, которую мы собрали для того, чтобы с её помощью это делать.
Вот по аналогии с вертолётами и другими движущимися средствами можно сказать и про мышление. Когда мы задаём по отношению к мышлению этот вопрос (казалось бы, простой, понятный и логичный): как правильно мыслить, то если мы задаём его первым, мы легко выходим на допущение того, что правильно мыслить по-китайски и правильно мыслить по-древнегречески – это разные вещи. И перед тем, как учиться мыслить правильно, мы должны определиться, будем ли мы учиться мыслить правильно по-китайски или по-европейски. Если же последовательность вопросов была бы другой, то тогда эту мысль, эту идею допустить очень трудно: как может существовать какое-то правильное китайское мышление, отличное от европейского мышления? Ведь оно должно быть устроено одинаково, это же субстанция или атрибут некой субстанции, человека как такового, например. Поэтому должны же быть какие-то общие вещи для всех. На самом деле нет.
Т. В. – Получается, что мы можем задавать вопрос, а мышление ли это? Ведь оно должно чем-то отличаться? Мыслит по-китайски по-русски или ещё как-то от, скажем, разговаривает? Тогда, получается, задаётся какой-то общий атрибут. Ну, только, если там функционально, или, я не знаю, задачно.
В.М. – Да, правильно, но только с удержанием этой последовательности. Скажем, когда ты сидишь в вагоне поезда, ты можешь себя спросить: а движемся ли мы, и как двигаться. Но, садясь на велосипед, ты понимаешь, что речь идёт о разном движении, о разных каких-то вещах. И когда это понимание есть, тогда и ответы на эти вопросы: а мыслим ли мы вообще, движемся ли мы вообще или не движемся – они резонны. Вот, скажем, про велосипед или поезд – это одна штука. А карусель? На карусели люди движутся в том же смысле, что и на велосипедах и на поездах?
Т.В. – Ну, возникает вопрос: что такое движение?
В.М. – Ну, резонно. Но мы сейчас про мышление. Движение – это только аналогия для того, чтобы понятней было. Но эти вещи очень важно отметить, итак: мышление – это техника, это конструкт, конструкция, поэтому мышлений может быть много. Поэтому однозначно ответить на вопрос, как мыслить правильно, не указывая относительно какой конструкции задаётся этот вопрос, нельзя.
Вот это, собственно, основная часть сегодняшней лекции.
А. Е. – Тогда получается, что всегда есть вот эта вторичная субстантивация. Да, мышление – это техника и конструкт, но когда мы начинаем спрашивать по поводу того, какой именно это конструкт, мы задаём вопрос, что это такое. Нам необходимо как бы вторичная субстантивация, как бы субстантивное понятие про мышление, когда мы начинаем рассуждать о правильном или неправильном мышлении.
В.М. – Точно, точно. Для того, чтобы жить в своём новокупленном домике, Тонкачёвой нужно топить печку. Её интересует, как правильно топить печку, чтобы не угореть от угарного газа и чтобы тепло было. Вот это то, что её интересует. В попытке найти ответ на этот вопрос она может натолкнуться на необходимость получить чертеж печки в разрезе. Точно так же как правильное обучение вождению начинается с изложения устройства автомобиля.
С.М. – Не-а.
В.М. – Правильное – начинается с изложения устройства автомобиля.
С. М. – По-разному.
В.М. – Матчасть учить надо.
С. М. – Понимаешь, вопрос «что» и «какой» – они разные. Можно задавать вопрос «что» и абстрактно отвечать, а уже когда спрашиваешь – «какой»…
В.М. – Нет, ну Андрей спрашивал про вторичную субстантивацию.
А. Е. – Она всегда есть. Мы всегда уже имеем дело с некоей вторичной субстантивацией, вся философия разворачивалась по поводу предшествовавших знаний о мышлении, которые всегда уже есть. То есть, мы всегда имеем дело уже с некой вторичной субстантивацией мышления как таковой. И …
В.М. – Но мы должны – даже если получаем её (субстантивацию?) из первых рук, например как устройство автомобиля – мы должны понимать искусственность этого автомобиля, то, что он сконструирован и собран, т.е., понимать вторичность субстанциональности.
А. Е. – А, ну понятно. Вопрос в данном случае в отношении самого спрашивающего, который априорным считает вопрос «как», а все остальные вопросы «что» рассматривает как вторичные.
В.М. – Можно так, да.
А.Е. – Ну ладно, надо подумать ещё про это.
В.М. – Ещё есть тут вопросы, реплики и замечания?
На самом деле, чтобы там ни говорили Акудович, Мирошниченко и прочие, эта версия – она далеко не банальна. Настолько не банальна, что даже методологи, которые делают мышление основным предметом своего размышления, работы и т.д., время от времени сбиваются на первичность субстанциональности мышления. Более того я уже оговорился вначале (и это может потеряться, как в стенограмме, так и в восприятии сегодняшнего говорения), что я всё же не могу выставить категорических возражений против субстанциональности мышления. Может, она и есть. Более того, я сам, когда мне приходится рассказывать про мышление, рассказываю о том, что мне знакомо три мышления: субстанциональное мышление, или онтологическое, профессиональное мышление и Dasein-мышление. И то, что говорится про онтологическое мышление – то оно-таки как бы одно, но оно относится к категориям с минимумом содержания. То есть, что мы можем сказать про существующее онтологическое мышление – только то, что оно либо существует, либо не существует. Одно из двух. И, в общем, ничего другого сказать про это мы не можем. А если мы начинаем что-то про это говорить, то мы начинаем фантазировать, и к разряду таких фантазий относятся любые фантазии на предмет обустройства мира как такового.
Другое дело профессиональное мышление. Как только мы попадаем в зону профессионального мышления, мы понимаем: профессии разные и мышления поэтому тоже разные. К профессиональному мышлению – ну, это я выделял как разряды такие – туда же можно отнести и культурное мышление, т.е. китайское, европейское и т.д. Уже на уровне профессионального мышления мы имеем дело не с мышлением, употребляемым исключительно в единственном числе, а с мышлением, которое обязательно употребляется с маленькой буквы и во множественном числе – «мышления». Мышление китайца отличается от мышления математика. Мышление математика отличается от мышления древнего грека. Но фокус состоит в том, что и там, на этом пути с профессиональным мышлением, нас подстерегают определённые неприятности. Например: китаец может быть математиком? Может. На том основании, что один математик еврей, а другой китаец, может возникать соблазн сделать вывод, что мышление одно и не знает разницы между китайцами и, например, европейцами. Но это математическое мышление, но математик мыслит не так, как китаец, даже будучи китайцем по происхождению. Существуют ли китайские методологи в природе, я не знаю, но если бы они существовали, они мыслили бы не так, как мы.
Но фокус, или неожиданность, которую нам подбрасывает история философии, состоит в том, что в Китае нет логики, китайцы не нуждаются в логике. Цивилизационные очаги, которые возникли в осевое время, они привели к…
Т. В. – Ну, вот в Вашем разворачивании может быть и китайская логика. Там нет европейской логики, зато есть китайская логика.
В.М. – Вот подожди. Логики китайской нет, это как бы медицинский факт. Но, то, что нет логики – является ли это основанием утверждать, что у них нет мышления?
Т. В. – А как мы будем отвечать на этот вопрос, исходя из вопроса «как правильно»?
В.М. – Элементарно. А алфавит китайский ты можешь сейчас назвать? Вот алфавита у них тоже нет, однако они читают. На том основании, что …
Т.В. – Это надо разбираться, что такое: «читать».
В.М. – Ну, немножко, да.
Т.В. – Ну, так всё равно, вопрос «что» остаётся, а не «как правильно».
В.М. – Нет. Я же ещё раз говорю, что парадокс и противоречие рассуждения через онтологический вопрос приведёт нас к расизму или ещё какому-нибудь такому состоянию, при котором мы должны будем сказать: китайцы не мыслят, поскольку у них нет логики. В принципе я так и говорю, но я говорю это на таком «пабытовым узроўне». Если мы представляем себе…
А. Е. – Я не знаю, куда ты будешь дальше развивать, но пока у тебя есть апелляция к старому тексту, где ты выделяешь три типа мышления: онтологическое, профессиональное/предметное и Dasein-мышление, и вот…
В.М. – Я дошел до профессионального.
А. Е. – Да, я не знаю, будешь ли ты это развивать, но в чём, собственно, вопрос: если мы фиксируем существование разных типов мышления, то что делает их мышлениями? На каком основании мы их относим к некому единому классу? На основании того, что у них там присутствует онтологическая…
В.М. – И этот человек на прошлой неделе рассказывал, что он увидел, как представления и идеи философии Мацкевича разрешают противоречия реалистической и номиналистической установки.
А. Е. – Это я могу объяснить.
В.М. – Андрей, вот выйдешь за ворота, и там стоят белые сани Лёника и синенький фордик Светы. Синий фордик и белый ниссан. Совершенно разные вещи, ни склеить, ни связать нельзя. Что делает и то, и другое автомобилем?
Это вопрос из разряда схоластики.
А.Е. – Ну-у-у… Небесный автомобиль, воплощённый… J
В.М. – Отлично. Не решая вопроса о существовании универсалии автомобиля в реальности, мы тем самым вынуждены будем обратиться к идеальному плану для того, чтобы разобрать, что общего между фордиком и нисанчиком.
А. Е. – Понимаешь, эти все вопросы – они как бы такого онтологического плана, которые отталкиваются от «что»: что это, что в нём разного и одинакового, а не от вопросов…
В.М. – И ничего страшного в этом нет, если и сами вопросы возникают вторичным образом – логически вторичным, не в исторической последовательности, а логически вторичным образом; и если ответы, получаемые на эти вопросы, мы трактуем как вторичную онтологизацию. Понимаешь? Если мы об этом забываем, то тогда мы вынуждены будем апеллировать к небесному автомобилю платоновскому, и убивать всех, у кого автомобиль не похож на усреднённый синий форд и белый нисан, как не соответствующих идеальному небесному автомобилю J.
А. Е. – Хорошо, а вот методологическое мышление, о котором…
В.М. – Так много говорили большевики…
А. Е. – …оно описывалось как отличное от предметного мышления.
В.М. – Точно, но оно в этом смысле всё равно является предметным. Ну, по-другому, там нельзя это назвать предметным, поскольку этот уровень, которые там описывается в энциклопедической статье, где есть три уровня: онтологическое мышление, профессиональное, или предметное, мышление и Dasein-мышление (рис.1.1)…
А. Е. – Второй тип, он фактически в том, как ты сейчас рассказываешь, описывается схемой трансляции культуры и воспроизводства деятельности. Да?
В.М. – Да.
А. Е. – Это такого рода мышление, и ты говоришь, что методологическое мышление – это такого же рода мышление.
В.М. – Ну, вот смотри. Ты же меня на этом и пытался поймать, и Водолажская меня на этом пытается поймать. Теперь смотри, какая штука. Ты про Формулу-1 знаешь?
А. Е. – Формула-1 – это гоночки такие?
В.М. – Да. Когда мы обсуждаем на уровне Формулы-1 пилота Микки Хаккинена, или Шумахера какого-нибудь, то как мы можем сравнивать умение водить болид Шумахером и, например, классного водителя Дениску?
Т.В. – Можем сравнивать.
В.М. – Можем, и именно таким образом. Мы – методологи. Мы там Формулу-1 можем выигрывать, или пытаться по крайней мере, ну а то, что ты можешь проехаться от Чижовки до Комаровки – это отдельная штука. Вот наше отношение к предметным мышлениям и настаивание на том, что вот это мышление – правильное, оно сродни такого рода аналогиям. То есть мы точно должны поместить методологическое мышление сюда (на схеме – в предметное мышление).
Но здесь надо разобраться и много чего сказать. Как предшествующие формации, или формы, мышления настаивали на своей правильности? По большому счёту, они все так или иначе исходили из платоновского представления о мышлении. То есть они утверждали, что из многих существующих на этом уровне мышлений (на схеме – предметных), наше лучшее, потому что соответствует некоторому небесному мышлению, лежащему там, в платоновском мире, где субстанция существует (рис.1.2).
Мы такой апелляции себе позволить не можем (я, по крайней мере, не могу). Я должен сказать, что раз наше мышление находится здесь (на схеме – предметные мышления), а здесь все мышления суть конструкции, то мы можем говорить только о том, что наша конструкция лучшая по каким-то параметрам и основаниям. Вряд ли Шумахер – на чём он там ездил, на «Феррари»? – будет бомбить в свободное от гонок время таксистом по Минску. Понятно, что другой хмырь – тунисец из Марселя на «Пежо» гонял – для фильма это хорошо, но подрабатывать таксистом на болиде «Формулы-1» несколько неправильно.
С.М. – А тогда философское мышление куда?
В.М. – Подожди, я пока про это (на схеме – предметное) говорю. Соответственно, сравнивая разные типы мышления, или разные конструкты мышления, мы должны всякий раз задавать параметры для сравнения и выстраивать ту или иную «Формулу-1». Опять же – ладно, бомбить по Минску таксистом, а пустите болид Шумахера на «Париж-Даккар» – та же самая фигня будет. То же самое с методологическим мышлением.
Д.Г. – Не знаю, может, я неправильно Вас понимаю, когда Вы говорите «конструкт» у меня складывается впечатление, что это в рамках какой-то цели, или какой-то деятельности сделанный конструкт. Служащий определённой цели в определённой деятельности.
В.М. – Ну да.
Д.Г. – Да? То есть получается, что он свёрнут уже в какой-то другой контекст.
В.М. – В какой?
Д.Г. – Ну, в более широкий, вот в этот контекст деятельности, например.
В.М. – Ну, не без того. И что?
Д.Г. – А как же тогда все эти тезисы про первичность мышления? Оно тогда, получается, по сути вторично по отношению к этой деятельности?
В.М. – Подожди. Кто тебе такое сказал? Мы же пока говорим о мышлении, а не о деятельности. А деятельность что такое?
То есть, понимаешь, если бы я начинал вообще говорить о мире, как это было принято среди философов до окончания эпохи просвещения, то, наверное, я был бы должен сказать: «Дима, с деятельностью будет то же самое». Но, в общем, я говорю про мышление и индивидуальность в этих лекциях. Поэтому у меня нет иллюзии, что я могу построить здесь общую, универсальную, единую, абсолютную картину мира. То есть, я бы даже мог, если бы мир был один. А так, я делаю нечто другое. Я рассказываю про мышление. Более того, я говорю, что мышление не есть такая штука, которая существует как часть единого, абсолютного мира и т.д. В противном случае – опять смотри пункт первый – я бы мог всё это сделать. Потому что мышление – это процесс, техника, конструкт.
С.М. – Подожди. Процесс и конструкт – это разные вещи.
В.М. – Разные.
С.М. – Конструкт – это статика уже какая-то, тогда как процесс – это… процесс.
В.М. – Ещё раз: первична – техника. Точно так же, как желание и мечта летать по воздуху аки птица первичнее конструкции под названием «самолёт».
С.М. – То есть мышление как конструкция есть результат мышления как процесса?
В.М. – Нет. Это результат чего-то другого. Не обязательно мышления. Например, эволюции философии, философских институтов.
Л.К. – Если это конструкт, то он же делается тоже на каким-то основаниях? То есть тогда получается, должен быть какой-то протоконструкт?
Д.Г. – Первоконструкт.
Л.К. – Откуда взялся тогда первый конструкт?
В.М. – Ну, в общем, да. Но, понимаешь, какая штука, я же для этого и провожу все эти изыскания псевдогенетические, псевдогенетические реконструкции. Ну, например, я так понимаю, что тонкачёвская печка напрямую происходит из кострища троглодитов-неандертальцев, и т.д. То есть первоначальный костёр возник из бревна, горящего на полянке. Над этим костром кто-то догадался подержать за хвостик мышку, потом он понял, что держать мышку на весу над костром тяжело, и он к горящему бревну подвинул первый камень. И вот этот камень является краеугольным камнем тонкачёвской печки на этих самых озёрах. Вот: миллионы лет строили тонкачёвскую печку, а теперь она требует её в разрезе. J
Д.Г. – Ей не надо разрез! Ей надо псевдогенетическая реконструкция!
В.М. – А теперь смотри: издевательство Галиновского является ответом на твой вопрос. Чем лучше методологическое мышление? Оно, конечно, не даст Тонкачёвой её печку в разрезе, но псевдогенетическую реконструкцию построить может. Но, с другой стороны: Тонкачёвой-то это на хрен не надо, ей разрез подавай J. И в этом смысле, методологическое мышление не лучше рентгеноскопического мышления, которое может, (как дефектологи – неразрушающий контроль), ультразвуком просветил – печку в разрезе получил.
Л.К. – То есть получается, люди способны к продуцированию таких конструктов из различных типов деятельности, или скорее, жизни, жизнедеятельности? Так как некоторые конструкты возникают параллельно, не из общего корня? Это я про профессию «китаец». Про китайское мышление.
В.М. – Понимаешь, в соответствие с этим представлением, которое я сейчас развиваю, здесь «профессиональное» надо расширить до других типов – цивилизационного мышления, например. Но при этом, смотри, какая вещь: если про профессиональное мышление, про которое я говорил тогда, я могу что-то внятное сказать… ну, например, я могу сказать, что предмет – профессиональный предмет, научный предмет – это и есть тот конструкт, на котором мы можем, в этом смысле, ездить. Тот мотоцикл, на котором мы знаем, как правильно ездить. То: что является аналогом предмета по отношению к китайскому мышлению? Здесь очень сложно сказать. И эта сложность связана уже с деконструкцией и вопросами про технику. Возвращаясь к тонкачёвской печке: итак, мы поняли, откуда взялся кирпич, из которого сложена печка. Прародиной, или первокирпичём, был тот камень, который неандерталец подвинул, чтобы удобнее было. Потом они сдвинули кучу камней, и получился не просто костёр, а очаг. Над очагом положили палочку, и т.д. А вот палочка откуда возникла? Про кирпич из печки мы понимаем, а палочка откуда возникла?
А.М. – Из руки.
В.М. – Да, она возникла из человека, который держал мышку за хвостик над этим костром. Рукой, то есть сам. И некоторые конструкты не создавались по плану, как создавались научные или профессиональные предметы. Они возникали вот таким образом, в результате какой-то второй интенции. То есть мы не создавали их специально, но сама техника привела к каким-то вещам такого типа. В этом смысле кострище можно и без камней окультурить, если оно неким образом выжигает почву и само по себе углубляется в ямку, за много лет и т.д.
Так же и здесь: профессиональные мышления создавались, как создавались мотоциклы, автомобили и т.д., у мотоциклов, автомобилей есть даже авторство, можно спросить с кого-то за это. Но совсем иное дело – колесо. Поиски изобретателя колеса вряд ли приведут к чему-то путному. И вот, скажем, культурные, цивилизационные мышления – они создавались каким-то таким образом. Они росли квазиестественным образом. Они всё равно конструкты, не перестают быть от этого конструктами.
Л.К. – Но они казуальны по своему происхождению. Где-то случилось, а где-то не случилось.
В.М. – Да. Есть разные вещи такого рода. Вот есть, скажем, библиотеки у некоторых интеллигентов, или коллекции, которые они целенаправленно собирают – они знают, что туда покупать, что искать, как формировать, обменивают лишнее на полезное и т.д. Но большая часть библиотек – это стихийно выросшие книжные залежи. Вот такая вот штука.
Ещё вопросы?
Тогда следующий момент. Я уже начинал говорить, что область моего интереса, который называется мышление, в разные времена разными философами называлось разными именами: нус, логос, разум, интеллект, машинный интеллект. Дальше я говорю: то, что я называю мышлением, является некоторым конструктом. Конструктом, или системой – цельной системой, сложенной из некоторых конструктивных элементов. Как тогда с этим конструктом соотносятся те вещи, которые мы относим к естественным способностям человека – ну, скажем, к уму, или сообразительности? И в этом смысле есть такая порочная практика, когда некоторые сложные явления рассматриваются как конструкты, комплексы, системы и т.д., начинается выделение системообразующих элементов, которые являются главными и центральными в некотором представлении в этой области, и затем происходит отождествление системообразующих элементов с самой системой. Например, естественная способность человека к контаминации впечатлений, которую мы иногда называем умом (в этом заходе, который я тут излагаю, она является всего лишь конструктивным элементом мышления), некоторыми мыслителями, учёными и т.д. полагается как системообразующий элемент, и дальше начинается отождествление этой способности с мышлением как таковым. И на этом базируется большая часть психологических учений о мышлении.
Первоначальное и самое правильное с моей точки зрения психологическое учение о мышлении состоит в том, что мозг выделяет мысль, так же, как печень выделяет желчь. Правильное – в смысле непротиворечивости и исходной органичности суждения, не выдерживающего, конечно, проверки, верификации, фальсификации и т.д., но тем не менее, оно является достаточно живучим и распространённым в психологии. И мне уже приходилось обсуждать эту критику через педагогику, как идею способностей в педагогике, которая сродни химической теории флогистона, когда мы всякое проявление какого-то соединения начинаем объяснять наличием в соединении вещества, для которого это является его главным атрибутом. Ну, или субстанциональным свойством.
Более спорные с точки зрения логической последовательности и чистоты психологические учения отталкиваются не от субстанциональности этого свойства у человека, а апеллируют к процессуальности. Например, изучают это свойство (мыслить) не как оно есть, а изучают, как утроен процесс, например, ассоциаций. И возникает в рамках сенсуализма и эмпиризма целое направление – ассоцианизм, которое начинает разбирать принципы и операторы ассоциации идей. И не очень поймёшь, чего в этих подходах больше – логики или материаловедения. Потому что там начинается с того, что предлагаются чисто логические конструкции и сочленения, сочетания, комплексирование ассоциирования идей, такие как, например, ассоциация по смежности, ассоциация идей по времени (идей в смысле сенсуалистических, не тех идей, про которые я говорил в предшествующих лекциях), ассоциации по контрасту, ещё что-нибудь. И вот ассоцианизм такие правила сочетания несочитаемых идей… они потом эмансипируются от собственно психологии, перестают быть психологическим направлением, а становятся основой для тех, кто озабочен собственно техническими вопросами. Например, ТРИЗ. Весь ТРИЗ строится на этом представлении о мышлении и на этой ассоцианистской линии, и они придумывают и изощряются в разных техниках ассоциаций каких-то несовместимых казалось бы идей.
Ну, если не брать все психологические представления о мышлении, то с моей точки зрения, особого внимания заслуживает версия, которую развивал мой учитель Веккер, состоящая в том, что мышление находится в ряду других психических процессов, но является высшим из них. Оно описывается, как и все психические процессы, такой триадой: пространственно-временная структура, модальность и интенсивность. Это то, что есть общего у всех психических процессов, а сам процесс мышления, надстроенный над процессами воображения, представления, высших форм восприятия и т.д., представляет собой процесс перевода с языка на язык. Например, с языка образов на язык символов. С языка одних символов на язык других символов. И он трактовал и понимал мышление именно как процесс перевода в характеристиках пространственно-временной структуры – которая позволяет инкорпорировать в себя все ассоцианистские представления, модальности, связанные с различием природ, характера языков; и интенсивности – то есть собственно эффективности и способности перевода.
Другое психологическое представление, которое тоже выводит за пределы психологии, развивалось Вюрцбургской школой, которая, в отличие от Веккера и большинства других психологов, не ставит мышление в ряд других психических процессов, а полагает мышление фундаментальным свойством человеческой субстанции, человеческой природы, и для них мышление является таким же первичным процессом, как и процесс ощущения, сенсорика и перцепция.
При этом, как перцепция надстраивается над сенсорикой, так и мышление даёт какой-то свой ряд. Но, в общем, аналогом сенсорики для мышления является восприятие идей, идеальных сущностей и т.д., которые никак не связаны с образно-чувственными прототипами ощущений и восприятия.
Логическая форма схватывания мышления предполагает тоже техническую, а не субстанциональную вещь, вне привязки к какой-то природной субстанции. Скорее, если уж там понадобятся какие-то субстанциональные вещи, то они выносятся за скобки логической техники. И логика начинает обсуждать езду на универсальном транспортном средстве: не обсуждая отдельно езду на велосипеде, отдельно – на автомобиле, она выводит некие общие закономерности езды как таковой. И те или иные логики, которые пытались строить – будь то формальная силлогистика Аристотеля, или затем Булева алгебра и многие другие логики – так или иначе исходят из этого, но для этого они должны построить себе соответствующие символические языки, в которых задать структуру идеального плана, ну, и уже саму технику относить к идеальному плану (логическую технику и описание всех этих процедурных вещей). Содержательно-генетическая логика делает шаг вперёд по отношению к этим вещам (к логическим как таковым), и начинает обсуждать не только языковые оперирования с теми или иными конструкциями, создание логик как языков оперирования, а начинает обсуждать это в деятельностном залоге, связывая между собой мир символов, имён, обозначений, в котором производятся одни процедуры, и мир означаемых, с которым они содержательным и смысловым образом связаны, с которыми производятся и осуществляются иные процедуры. И тогда – продолжая идею содержательно-генетической логики – логика имеет дело со всеми четырьмя этими отношениями: с отношением внутри знаков и символов; с отношением внутри вещей, которые репрезентированы знаками и символами; и с отношениями – прямыми и обратными – между процедурами в знаково-символическом плане и в предметно-вещественном плане.
Но, так или иначе, все эти представления о мышлении, в той или иной степени характеризуются этими двумя обстоятельствами: либо сведением субстанции мышления к субстанции системообразующего элемента (грубо говоря: объявления мышления человеческим интеллектом, или умом, и соответствующее изучение); либо редукцией к одному или нескольким конструктивным элементам, как это бывает в ТРИЗовских и развитых логических представлениях о мышлении.
Нам же необходимо рассмотреть эту самую конструкцию, конструкт. Ну а дальше – я бы предложил посмотреть на материал предшествующих лекций, на введённые и упомянутые в них идеи и представления как на конструктивные элементы, из которых мы можем собирать мышление. И таковых конструктивных элементов там несколько групп, внутри которых помещаются разные другие элементы. То есть это может быть представлено как такой многоплановый «ЛЕГО», в котором есть узкофункциональные элементы, есть универсальные элементы, из которых мы можем собирать что-то, но то, из чего и на чём мы собираем это самое мышление, мы, так или иначе, называли. Это идеальный план и всё, что с ним связано, это – как это там называлось? – атрибутивно-эмпирический комплекс, и это некоторая социальная структура, которая описывается как институт философии. Значит: идеальный план, институт философии и атрибутивно-предметный мир человеческой деятельности (схема 2).
Соответственно, три блока, и в каждом из них лежат свои элементы, и из этих элементов мы собираем то, что называется мышлением.
Что я ещё не сказал, что я забыл? А забыл и не сказал я следующей штуки: сейчас я назвал очень грубо этих три блока, в которых располагается ещё много-много всяких конструктивных элементов, но специальная линия в этих лекциях была посвящена идеям, и идеи я бы в этом ряду конструктивных элементов выделил особо, обсуждая этот конструктивный элемент несколько раз. С одной стороны, когда я рассматривал идею не в идеальном плане, а в институте философии, идея там описывалась метафорически, как солнечный зайчик и т.д. Можно ещё рассмотреть её как ниточку с иголкой, которая сшивает разные лоскутки, разные конструктивные элементы в целое – можно их сочленять как «ЛЕГО», когда они комплиментарны друг другу, а если они некомплиментарны, то их надо как-то присобачивать. Клеить, сшивать и т.д. Но в любом случае, когда мы говорим о конструкциях, мы не можем игнорировать клей, нитки, то есть конструктивные элементы, позволяющие сшивать другие конструктивные элементы, и не должны исключать их из набора конструктивных элементов, что, в общем, тоже является достаточно распространённой ошибкой.
Так вот, идею мы должны рассматривать не только как конструктивный элемент, который позволяет сшивать другие конструктивные элементы друг с другом, но идея является по-своему очень важной частью этой конструкции, особенно когда мы не просто рассматриваем мышление как конструкцию и описываем его конструктивные особенности, но и понимаем роль и значение индивидуальности и в её отношении с мышлением, и как конструктивного элемента в мышлении, и как того, без чего эта штука вообще не фурычит.
Дело в том, что как бы ни была вторична онтологизация в конструкции, ни одна конструкция сама по себе не делает того, ради чего мы по отношению к ней задаём технический вопрос. Грубо говоря, спрашивая, как правильно ездить на мотоцикле, мы понимаем, что вопрос адресован: к мотоциклу определённой конструкции, потому что на разных мотоциклах ездят по-разному, но само отвечание на это немыслимо без того, что бы передать вопрошающему умение ездить. Так же и с мышлением. Мы можем увлечься – независимо от того, что это вторичная онтологизация – разбором конструкций мышления, но, забыв о том, что мышление не мыслит без того, кто мыслит мышление (или мышление кем мыслит – я ж не знаю, кто кого везёт: мотоцикл водителя или водитель ведёт мотоцикл)…(предложение не закончено) Так же и с индивидуальностью и конструкцией мышления.
Так вот, идея – она очень важна по отношению к этой связке: того, относительно кого спрашивается: как правильно мыслить? Кому? И как правильно мыслить в том или ином мышлении? Идея связывает эти две вещи. Грубо говоря, если обратить это по отношению к самому мышлению, то…
Ещё один заход, не получилось с первого раза J. (непонятно, что с этим заходом делать?)
Мы помним ещё, что это говорится про идею, применительно к самому мышлению, в той связке, которая связывает мышление и индивидуальность, в вопросах, которые ставятся по отношению к мышлению, и в последовательности их постановки, и в последовательности отвечания на них. Я вернусь опять к аналогиям, или к метафорам про езду и всякие другие техники. Можно ли научиться ездить на велосипеде теоретически? В принципе, есть какие-то сложные виды техники, которые легко осваиваются теоретически. Даже самолётом, наверное, можно научиться управлять теоретически. По картинкам.
Т.В. – Можно описать, как правильно ездить.
В.М. – Да. Но попробуйте описать правильную езду на велосипеде, не посадив человека на велосипед.
А.Е. – С ходьбой ещё лучше.
В.М. – С ходьбой та же самая штука. С разговариванием прозой. Есть вещи, в которые мы вплетены на уровне почти чувственно-материального участия в них. То есть для того, чтобы научиться балансировать на велосипеде, надо балансировать на велосипеде. То же самое с плаванием. Чтобы научиться плавать, нужно выплывать, и т.д. Чтобы научится правильно мыслить, нужно начать мыслить. И вот идея, возникающая фактически в философском разговоре, в тех начальных лекциях, когда я долго топтался (две лекции, наверное), про эту пару, разговор, рассуждение и т.д. Потом последующее рассуждение про идею и т.д. Вот последующая идея возникает там, где я топтался на разговоре, коммуникации, диалоге и т.д., и там же возникает эта самая идея, которая и связывает индивидуальность участников, порождающуюся, индивидуализирующуюся, и мышление, которое на этом всём начинает собираться.
Что ты грустно смотришь? Я что-то не то говорю?
Т.В. – Нет, просто я запуталась окончательно.
В.М. – Так а кто обещал, что будет легко? Я и сам, в общем, не очень…
Т.В. – А вот если вернуться к тому, что Вы рисовали про мышление – предметное там, ещё какое-то. Мы из прошлых лекций какое мышление будем собирать – философское? Мы же не можем собирать «мышление вообще»!
В.М. – Нет, из прошлых лекций его собрать нельзя. Можно собрать из конструктивных элементов, которые я либо вводил, либо только намекал на их существование.
Т.В. – Ну и ладно, какое мышление Вы будете собирать? Ведь «вообще мышление» нельзя собирать?
В.М. – Вот, смотри, какое мышление… Мы можем собрать два… Я пока ничего ещё не говорил про дозайн-мышление. Там тоже собираются разовые какие-то конструкции. Мы можем собрать вот это и вот это (на схеме 1: предметное и дозайн). Онтологическое мышление собирать нафик не надо.
Т.В. – Нет, вот средненькое – какое?
В.М. – А, какое! Вот какое соберём.
Т.В. – А разве… то есть из одних и тех же элементов мы можем собрать разное?
В.М. – Из одних и тех же элементов мы можем собрать разное мышление, конечно.
Т.В. – А как мы узнаем, какое мы собрали? J
Я не знаю, я, наверное, вообще ничего не понимаю, но я понимаю, что если у меня есть такая задачка: вот тебе 10 деталек, и собери что-то – для меня тогда должна быть задача выставлена: для чего, или что оно должно делать – то, что я буду собирать. Или я любую фигню могу собрать и назвать это мышлением?
В.М. – Слушай, ты когда-нибудь Ханойскую башню собирала?
Т.В. – Нет, я не знаю, что это такое.
В.М. – Есть такая тренинговая процедура. Она раньше называлась Ханойской башней, а можно по-другому как-то, скажем: склеить из листов А4 что-нибудь, например, самолёт с заданными размерами, с размахом крыльев три на четыре. Или ещё что-нибудь. И такое задание даётся группе из пяти человек. Как правило, группа, когда начинает выполнять такие задания, первоначально – при всей простоте таких построений – берутся, и ничего не получается. И тренинговое обучение состоит в том, что их подвигают рефлексивно к набрасыванию некой организации на создателя будущего продукта. И конструкция, которую мы собираем из этих вот вещей, действительно может быть разная, и определяется она той соорганизацией участников института философии, который это делает.
Т.В. – Правильно ли я понимаю, что мышление собирают участники института философии?
В.М. – Оно собирается. Потому что они – один из конструктивных элементов всего этого.
Т.В. – Любого мышления?
В.М. – Конечно, любого! Я не могу убрать социальность из мышления! Да, любого!
Т.В. – Я не про то. Любое мышление – инженерное, ещё какое-то – собирается участниками института философии?
В.М. – Там другие штуки. Тут, понимаешь, в именах дело. Если ты понимаешь эту разницу в именах, то я скажу – да, для инженерного то же самое.
Т.В. – Что – то же самое?
В.М. – Социальная структура инженерного мышления предполагает институт инженерного мышления.
А.М. – Нет, я бы на Вашем месте более радикально сказал: да, институт инженерного мышления собирает философия, институт философии.
Д.Г. – Ну, это философский снобизм, это нам известно J.
В.М. – Почему? В этом смысле я даже, наверное, поведусь на то, что говорит Мирошниченко и скажу, что так оно и есть. Социальные институты – они друг другу нужны. И философский институт рефлектируется инженерами как то, к чему они апеллируют для сборки собственного предмета. Это, конечно, правильные инженеры. Но инженеры, как и пчёлы, бывают неправильные, и делают они, соответственно, неправильные инженерные конструкции.
Да, так вот. Я сегодня наговорил, наверное, несколько таких вещей, которые трудны для понимания, несмотря на свою исходную простоту. Но эта простота философская, поэтому она и предполагает такие понимания. Но вот эта последняя вещь, которую я говорил – я её должен был сказать, наверное, раньше, в рассуждениях про идеи. Но её приходится говорить теперь, потому что нельзя собирать мышление, не мысля. А значит, эта идея (я так и не поняла – какая?) сама по себе должна родиться в той социальной структуре, которая является конструктивным элементом самого мышления.
Что-то вы там совсем, девки, мне не нравитесь.
А.М. – Что, зелёные, да?
В.М. – Ну, совсем. Как будто у меня крыша поехала, и они очень беспокоятся за моё душевное здоровье.
Т.В. – Мы за своё душевное здоровье беспокоимся.
В.М. – Хорошо хоть Эдуард там фон составляет, улыбается, а эти три – просто ужас какой-то.
А.М. – Просто с дидактической точки зрения странно всё, что Вы говорите. Ну, не странно, но тяжело.
В.М. – Ну, понимаешь, это потому, что я обиделся очень на всех слушателей этих лекций. Я полгода их читаю, а все что-то не понимают. Я пытался их даже как-то дидактически выстраивать, а потом плюнул на это дело и говорю: мне вообще плевать на эту самую дидактику, потому что вы простых вещей не понимаете, как я буду сложные рассказывать?
А.М. – Главное, выговориться, короче J.
В.М. – Ну, конечно. Главное, чтобы это было: в тезисах, в цифровом виде записано…
А.М. – А люди потом через тысячу лет разберутся.
В.М. – Ну вот, понимаешь, какая штука: тут мы со Светланой обсуждали мою новую идею-фикс – написать книжку «Диалоги с Акудовичем». Вот у Акудовича была такая книжка «Диалоги с Богом», а я человек скромный, я не могу подвигнуться на такие вещи, как паганец Акудович, потому что…
Д.Г. – Он не паганец, он агностик.
В.М. – Полный паганец. Понимаешь, книжку «Код отсутствия» он начинает с того, что начинает мусолить про то, как нация заменила Бога в эпоху модерна. Нация становится какой-то сакральной фигнёй…
Д.Г. – Так это ж наведённое.
В.М. – Наведённое, не наведённое – неважно. Главное, что паганец однозначно. А кем эта порча наведённая – меня уже не интересует. Но дальше там какие вещи начинаются – прочитав запоем, за один присест – потому что раньше я листал книжки Акудовича, что-то нравится, что-то нет, нечего особо задумываться – а когда начинаешь это целиком читать, меня начинает штырить на нескольких моментах. Ну, например: заканчивает он эту книжку разделом, как бы дополнительным, «Игра в виртуальную Беларусь». Я говорю: вот как интересно. Значит, я затеваю в культурной политике, в «Беларусь: вопреки очевидности» игру в Беларусь. Есть ли разница, думаю я, между мной и Акудовичем? И понимаю, что да. Мне бы в голову никогда не пришло играть в виртуальную Беларусь. Вот в реальную – да. А в виртуальную – нет.
А.М. – Ну, просто выразился он неправильно.
В.М. – Ну да, если бы это было так. Дальше начинаешь тыкать туда, сюда, и там, оказывается, по всем параметрам идёт несостыковка. Но, понимаешь, какая вещь: паганец Акудович разговоры с Богом ведёт, а с Акудовичем ведь никто не разговаривает.
А.М. – А Бог?
В.М. – Ну, подожди: как может Бог разговаривать с Акудовичем, если Акудович в него не верит? А при этом ещё и «яго няма», и начинается…
А.Ш. – Если кто-то разговаривает с Богом, он молится, а если с кем-то Бог разговаривает…
В.М. – Вот Швецов всё знает. Сам паганец, но как правильно – знает.
Д.Г. – Владимир Владимирович, вот Вы ещё говорили в самом начале, может, я прослушал, что понимание мышления на протяжении истории философии разными словами обозначалось, по-разному как-то это маркировалось.
В.М. – Ну.
Д.Г. – А вот если бы на латинский переводить, Вы бы к какому своё понимание ближе ставили? То есть Вы там обозначали что-то, но скорее для того, чтобы дистанцироваться от этого.
В.М. – Нет, ну понимаешь, какая вещь. Я некоторые вещи, наверное, не проговорил, надо бы их, наверное, раскупорить и прочесть ещё серию лекций дополнительную. Вот, например, прошлая лекция была посвящена структуре идеального плана, и в ней я, кроме всего прочего, говорил про язык. Вот про язык вообще может быть построена целая философия языка, даже в рамках философии мышления и индивидуальности. В этом месте я бы сказал опять метафорически: что мы делаем именами? Имена – это как дротики в «Дартс», мы берём имена и швыряем их в некоторую область. Попадём – не попадём, но это швыряние и втыкание определяет некоторую область. Вот мышление – ещё до того, как мы выйдем на вторичный вопрос о том, как оно устроено, до этого помечается, как шариками в Дартсе, или гаечками у Рэдрика Шухарта – он там помечал комариную плешь. Имена, дротики, которые швыряли Анаксагор, Декарт и другие – они метили область нашего интереса.
Но помеченная область – она ещё ничего не даёт в плане возможности понимания: что это, куда и зачем. Это же на уровне простейших очевидностей, скажем: люди соображают. Одни соображают, другие не соображают. Стоит об этом думать? Наверное, стоит. Хотя, как посмотреть, потому что греки, например, полагали, что стоит думать о том, что существует реально, а о том, что существует во мнении – думать не стоит. А о самом мнении? Они ограничились тем, что его просто пометили, и назвали это мнением, доксой. При всём при том, что греки никогда не были психологистами, поэтому даже мнение, докса, логос и т.д. – всё это у них было всегда интерсубъективно. А дальше уже начинается редукция. Но когда появляется само слово «мышление», адресованное к психологической предметности или к школьной логике – это уже изрядная редукция из той, помеченной другими философами области. Поэтому, конечно, что из этого ближе – я не знаю. Мышление и мышление, я сейчас работаю с мышлением. Правильно это или неправильно – я не знаю.
Д.Г. – А когда книжки на английский переводили, там это как переводилось?
В.М. – Мышление? Я английского вообще не знаю.
Д.Г. – Я поэтому и спросил, думал, Вам на латыни лучше…
J J J J
В.М. – Я-то боюсь, что мышление не есть перевод с языка на язык. И в этом смысле – почему я вынужден привязывать это к институту философии, к специальным каким-то вещам и к предметностям? Например, по отношению к англичанам, скорее всего, можно сформулировать такую же гипотезу, как по отношению к китайцам. Вряд ли они мыслят. Соображать соображают…
Д.Г. – Ну вот Вы говорите про интерсубъективность у греков, про какую-то интеръязыковость, интерлингвистичность.
В.М. – Да.
Д.Г. – И что «да»? И как тогда это выразить можно, чтобы это стало достоянием интерлингвистичности?
В.М. – Да та же самая фигня: ты просто должен включить иноязычных подельников в институт философии. Если у тебя не будет учеников из Южной Африки, Северного Уэльса и Западного Хань – (совершенно неразборчиво. Может, Вы вспомните? (или придумаетеJ?). При этом, обрати внимание: вьетнамцы, с которыми тебе приходилось учиться (или кто там у тебя был? Китайцы?) – они мыслили?
А.Е. – Галиновский слишком уважает мышление и слишком не уважает китайцев, чтобы утвердительно ответить J.
В.М. – Из-за этих языковых штучек-дрючек они просто не попадают в эту структуру вообще. Возникает ценз, запрет на эти вещи. Не потому, что они совсем дурные, а потому что ценз. В то же время, когда люди начинают включаться, они вовлечены и включены, то языки – на самом деле не помеха, и на мигах можно разобраться. Но для этого нужен момент включённости, и про это я как раз говорил, чтобы вы с идеей схватили и поняли. Идея раскупоривает эти штуки. Через идею достигается включённость. Но идею мы должны схватить одинаково. Вот у нас с Акудовичем разные идеи Беларуси.
А.М. – Может, у вас мышление просто разное? Может, у него его нет?
В.М. – Ты чего Акудовича обижаешь? Китайцев – ради Бога, а Акудовича зачем? Тем более моего будущего партнёра по «диалогам с Акудовичем».
А.М. –Так Вы же будете с Акудовичем общаться, так же, как Акудович с Богом.
В.М. – Таки проблема.
На самом деле, мне тут самому не очень-то понятно, но мне понятно, что здесь зарыта собака многих современных проблем, с которыми мне приходится сталкиваться в практической деятельности. Это когда, например, слова не сопрягаются с идеями. И тогда словами просто нельзя передать мысль. Мысль передаётся конструкциями мышления. Но для этого надо принять в нём участие.
Ну, я бы на этом закончил. Есть ещё какие-нибудь реплики, замечания?
А.Е. – А про дозайн-мышление?
В.М. – А про дозайн что – это временные конструкции, которые собираются и разбираются. И в этом смысле, конечно, дозайн-мышление гораздо более упрощённое, оно возможно, например, без институтов – инженерного, философского и т.д.
Дозайн-мышление мы сворачиваем – как бывают длительные процессы, а бывают аналогичные длительным процессы взрывные, ну, или короткие. Скажем, процесс гниения и процесс горения – в принципе где-то близкие.
Д.Г. – Суть их – процесс окисления.
В.М. – Да, Галиновский знает суть дела.
Процесс мышления, когда я говорю… Вот я заметил тут дискуссию Водолажской и Мирошниченко по поводу Акулова, и Мирошниченко очень забавные вещи там говорит о сведении института философии к нации-государству и т.д. Наверное, такие интерпретации можно делать, но у меня их не было, во всяком случае. Но там забавная какая штука есть: институт философии вот в том виде, в котором я его вводил, есть длительная вещь, разворачивающаяся на поколениях, и, в общем-то, не вмещающаяся в ограниченность нации-государства и т.д. По крайней мере, я так думал, когда это рассказывал. А можно сравнить институт философии как социальный конструкт и, например, организационно-деятельностную игру. И там, и там создаются некие социальные конструкции, но если в играх – это такая взрывная штука, то в институте философии она растянутая. И коммуникация строится по-разному – искусственно по-разному. В институте философии коммуницировать приходится иногда с людьми, разнесёнными по времени, годам жизни, на поколения. Чтобы поговорить за завтраком с Кантом в институте философии – это надо специально постараться. А в играх коммуникация тоже искусственно организуется, но иначе. Она организуется за счёт вытеснения общения из коммуникации, а поскольку общения очень много, то приходится в играх выдавливать сухой остаток в виде коммуникации. Но, тем не менее – игра разворачивается на три дня, или семь дней, и заканчивается, и второй раз ты её не соберёшь. Она всякий раз собирается, и всё. А вот конструкции велосипеда, автомобиля и института философии – они воспроизводимы, тиражируемы, даже если какой-то из ваших автомобилей разобьется.
А.М. – У меня есть вопрос. Я очень давно мучаюсь этим вопросом. Вот взаимоотношения мышления и сознания. У меня две такие ассоциации возникли: что дозайн-мышление, по-Вашему, фактически и есть то, что феноменологи называют сознанием.
В.М. – Ну, ты же знаешь – я плохо знаю литературу. Они допускали интерсубъективность?
А.М. – Да.
В.М. – Тогда запросто.
А.М. – И всё?
В.М. – Ну, я не знаю, какие у них там ещё заморочки.
А.М. – Ну и ладно. А вообще, чем сознание отличается от мышления?
Д.Г. – Сознание – это философская категория или психологическая?
А.М. – Философская.
В.М. – Вот кстати, у психологов она очень плохо развита. И, в общем, психологи как таковые, иначе относятся к этой категории, там совсем другая идея сознания, чем у философов. Там та же самая фигня, что у нас с мышлением. Мышление, разум, мудрость, логос, нус, гнус, и прочее – всё про это, «и это всё о нём». Точно так же у психологов: душа, психика, сознание – это вот всё про это, про одно. А дальше ничего не вычленяется. А работают они с другими категориями: сенсорика, перцепция, ощущения и т.д. А когда они начинают философствовать, типа Леонтьева в работе «Деятельность, сознание, личность», получаются, в общем, не очень хорошие штуки.
Поэтому про сознание я что-то знаю из психологии. Но сознание в психологии – это такая пустая философская идея, которая описывается Павловым в ленинской теории отражения, это отражающая способность. Фактически, там в конечном итоге добавление винеровской переменной «П» к бихевиористской схеме, собственно, исчерпывает все потуги психологического рассуждения про сознание. Другое дело, когда мы начинаем понимать эту приставочку «со-» к знанию. И тогда: интерсубъективность присутствует, и помимо целого ряда каких-то атрибутивных щтучек, типа способности к отражению, способности к удержанию, интенциональности и прочих других вещей, за сознанием мы мыслим вот эту вот «со-», «ко-сьянс», «ко-операцию» и т.д. Тогда сознание начинает становиться хорошей, красивой категорией, с которой можно работать, но я с ней не работаю. По большей части.
А.М. – Я почему спрашиваю: рефлексия – это есть процесс сознания или процесс мышления? Или это акт сознания в рамках мышления?
В.М. – Нет. Рефлексия – наверное, а вот рефлексия – это особое искусство езды на этом велосипеде.
А.М. – Вот про это я и спрашиваю. То есть это некий инструмент осуществления мышления, да?
В.М. – Нет. Я тебе ещё раз говорю: рефлексия – это особое искусство. Это, понимаешь, как езда на велосипеде без рук. Вот обычная езда на велосипеде предполагает одну технику, а рефлексия – это другой способ езды на мышлении.
А.М. – А может быть наоборот?
В.М. – Нет. Вот я дальше мог бы обсуждать – я раньше это обсуждал, правда, немного в другом залоге – есть три главных техники в рамках этого самого мышления: собственно мышление, рефлексия и понимание.
А.М. – Ну, это аналитическое такое членение, да?
В.М. – Типологически, я бы сказал. Я в этом смысле заложник типологического метода.
А.М. – В таком случае, мышление фиксируется… там есть какой-то переход, да? Какая-то иерархия? Ну, допустим, из рефлексии можно помыслить мышление. А из понимания – рефлексию.
В.М. – Рефлексию можно понимать. Мышление можно рефлектировать. Соответственно, понимание можно мыслить.
А.М. – То есть там равнозначные процессы.
В.М. – Нет, они не равнозначные. Они требуют вообще задействования разных конструктивных элементов целого. Нагрузка разная.
А.М. – Ладно, хорошо.
В.М. – И вот, скажем, по отношению к мышлению как таковому вообще про сознание можно не говорить (то есть я бы не стал говорить) – то есть возникновение идеи сознания, как Егоров в прошлый раз это обсуждал, у Абеляра открыло определённые конструктивные возможности, и дальше про абеляровскую идею сознания можно забыть. И мы про неё и забываем, отдавая ей должное, как факту. А вот для понимания её надо было бы реанимировать, и вытащить в другом качестве, и там даже психологические многие вещи – они не были бы вредны.
Всё? Или ещё есть вопросы, реплики? Нет? Тогда спасибо.