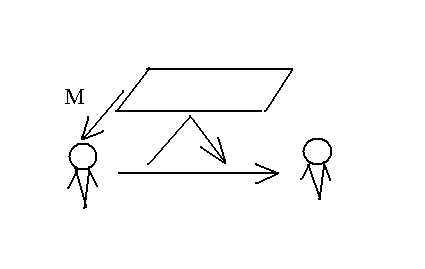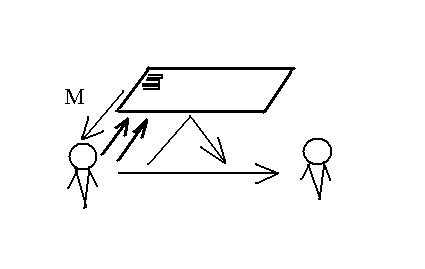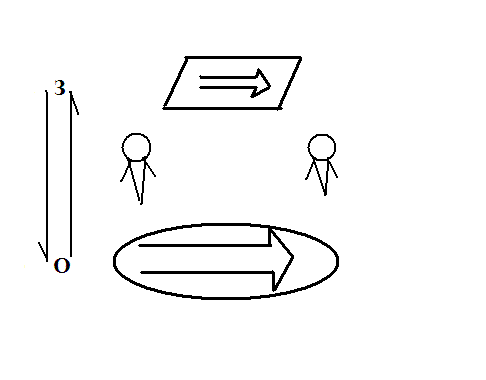Введение в философию. Лекция 10. Система идеального плана.
15 января 2009 г.
В.М. – Владимир Мацкевич
Т.В. – Татьяна Водолажская
А.Е. – Андрей Егоров
С.М. – Светлана Мацкевич
А.М. – Андрей Мирошниченко
Д.Г. – Дмитрий Галиновский
Ю.Г. – Юлия Галиновская
А.К. – Андрей Комаровский
В.С. – Валерия Стукина
Сегодня я хочу поговорить о том, как устроен идеальный план. Когда я затеял линию с приключениями идей, я думал продолжить эту штуку, потому что, с моей точки зрения, там ещё много чего необходимого надо было бы прояснить, поговорить и рассказать. Но, с другой стороны, это было бы непропорционально в том цикле, который складывается, где было намечено несколько линий, каждая из которых могла бы быть продолжена, но если углубляться и продолжать какую-то линию, то останется в стороне целый ряд вещей, которые уже просятся в обсуждение. И главное, что уже напрашивается в обсуждение – это, конечно, само мышление, к которому я всё никак не могу подступиться. Поэтому я решил прервать линию с обсуждением идей и перейти к обсуждению устройства идеального плана, чтобы выходить на само мышление.
Когда мы затрагиваем вопрос об устройстве идеального плана, то нас подстерегает целый ряд всяких опасностей. Опасностей, которые, с моей точки зрения, очень часто в истории философии уводили философов – целые школы, направления – в неправильную сторону. И этот неправильный путь, который избирали философские школы, философские направления, тем опаснее, чем более обустроен и функционально обеспечен институт философии. То есть неправильное философское направление мысли при развитом институте философии может уводит цивилизацию, культуру определённого региона стран, народов или целую языковую философию в каком-нибудь очень специфическом направлении. В принципе, если брать большие формации философии, которые можно маркировать языками, в которых они существуют (или странами, региональными культурами), то мы имеем очень специфические различия между такими философиями, как, скажем, англо-саксонское направление, развивающееся в Англии и США и смыкающееся с французской философией в какие-то периоды времени, и немецкое направление, в русле которого долгое время прибывала вся русскоязычная философия – это с одной стороны. Или борющиеся школы: скажем, средневековая схоластическая философия, которая с переменным успехом перекидывалась от платонизма к аристотелизму и, наоборот, с аристотелизма – уже в Новое время – назад к платонизму, и вся платоновская линия объективного идеализма – в том числе и то, что потом Поппер назвал историцизмом, а также всякие другие «измы» – например, психологизм, экономизм и т.д. Так или иначе, эти длинные направления, длительные существования философских школ связаны с тем устройством идеального плана, который в этих школах культивировался.
Наверное, я начну издалека – с общих, широко известных мест, связанных с условиями развития и становления древнегреческой философии и греческого мышления. Помимо той псевдогенетической реконструкции, которую я представлял в первых лекциях, связанной с линией Анаксагора, Сократа, Платона и Аристотеля, т.е. Афинской школы, в Греции существовала куча других философов, в том числе и в Афинах, но Афины связаны скорее вот с этим направлением, хотя часть сократических школ, так или иначе, культивировались в других греческих городах, греческих регионах. К тому времени, когда мышление и философия в Афинах достигли своего высшего расцвета, в других регионах греческого мира существовали развитые философии, хотя и не в такой институциональной форме, которую я затем обсуждал, а, скажем, в виде неких мудрецов, которые закладывали какие-то основания и создавали какие-то проблемы. Известно движение софистов, часть из которых тоже обреталась в Афинах, а частично их локализация была на западе, в так называемой Великой Греции, т.е. на Сицилии и на юге Апеннинского полуострова, в Италии. Нельзя сбрасывать со счетов Ионийскую философию, т.е. философию очень развитых ещё до подъёма и расцвета Афин городов на побережье Малой Азии, сегодняшней Турции. В первую очередь это, конечно, Мелет и Эфес, в котором обретался, жил и творил один из величайших мудрецов Древней Греции – Гераклит.
С именем Гераклита связано несколько очень существенных идей, которые затем получили широкое распространение и во многом сформировали проблематику европейского философствования. В частности, это идея изменчивости, текучести и то, что уже последующие адепты марксизма и гегельянства считали гераклитовской диалектикой. Собственно, такая школьная версия гераклитовского вклада, гераклитовской проблематики состоит в том, что по условиям своей жизни, своего происхождения Гераклит был представителем правящей династии в Эфесе, получил соответствующее воспитание, соответствующие установки и должен был наследовать место правителя Эфеса, но уступил его своему брату, а сам продолжил философствование. Но уступил он это место не только в силу отсутствия амбиций или ещё чего-нибудь, но в силу того, к чему приходил в своих размышлениях. А пришел он в своих размышлениях к тому, что мир, в котором ему предстояло бы управлять, если бы он унаследовал пост правителя Эфеса, оказывается неуправляемым. Потому что вместо ясной, понятной, статичной структуры, по отношению к которой можно применять те или иные управляющие действия, ко времени, когда жил Гераклит, всё стало меняться, всё стало разрушаться, мир стал текучим и такое родоплеменное устройство древнегреческих городов уже не существовало. А все представления о царской власти, управлении были сформированы по отношению к родовому, аристократическому устройству древнегреческих городов. Гераклит настолько озаботился этим обстоятельством своей жизни, что впал в длительное рассуждение и фактически стал представлять мир не статичным, а текучим, изменчивым, находящимся постоянно в этой изменчивости, как огонь, который временами воспламеняется, временами гаснет, но, тем не менее, никогда не имеет какой-то стабильной формы – а город, политика, управление родом, племенем требует придания и удержания некоторой формы. И в общем-то, те представления, которые у Гераклита были не философские, а политические, требовали поддержания и стабилизации этой формы. Гераклиту это представлялось невозможным, причём невозможным не только для него, как для правителя, а невозможным по принципу, онтологически. Это первая констатация гераклитовской проблематики.
Вторая вещь – менее популярная, менее известная в школьном преподавании философии Гераклита – состоит в том, что Гераклит начал обсуждать устройство мира не через категорию вещей, из которых состоит мир, а через категорию событий. Мир по Гераклиту состоит не из вещей, а из событий. Эта гераклитовская констатация не получила широкого распространения в самой Греции, но, тем не менее, для меня на сегодняшний день она достаточно важна. Потом мы к ней ещё вернёмся, когда будем говорить про устройство идеального плана.
Эта ситуация, в которой оказался Гераклит, была близка к той ситуации, в которой оказался Платон. По большому счёту, Гераклит в сократической традиции рассмотрения самой философии не был ещё философом как таковым – он в наименьшей степени интересовался тем, что позволяет нам мыслить о мире, скорее он может быть отнесён к той категории философов, про которых Сократ говорил, как про физиков, т.е. тех, кто обсуждает устройство мира. Тогда как в сократических школах, сократических философиях было отрефлектировано, что помимо самого мира существует ещё и некоторое представление о мире, и существует некий уровень – другой, отличный от мира вещей и даже мира событий, по отношению к которому необходимо точно так же внимательно присматриваться к нему, точно так же внимательно его описывать. Это инобытие мира Платон зафиксировал как мир идей, а уже Аристотель, демистифицируя этот мир идей, стал говорить о категориях, устройствах мышления и т.д.
Мне сейчас важна эта идея, это открытие, которое происходит в той группе философов, которых я рассматривал в своих первых лекциях (череда от Анаксагора до Аристотеля). Здесь в первую очередь важен сам Платон, потому что Платон по большому счету повторял в своей биографии биографию Гераклита. Платон точно так же принадлежал к аристократической семье, которая предъявляла свои права на управление Афинами. И точно так же как и Гераклит, хотя ему (в смысле Платону) и не светило быть царём Афин (в Афинах было уже совершенно другое политическое устройство), но, тем не менее, Платон был очень озабочен властью, преемственностью власти, получением и реализацией власти. Так вот, точно так же, с одной стороны Платон понимал, что практически невозможно управлять изменяющимся миром, а с другой стороны, Платон несколько раз предпринимал попытки самому вылезти в правящую элиту и попробовать чем-то управлять. С одной стороны два его дяди были в составе коллективной тирании в Афинах после поражения в Пелопонесской войне, с другой стороны, если я не ошибаюсь, то где-то девять учеников Платона или людей, которые так или иначе причастны к Платоновской академии, сами были тиранами в других греческих городах. Сам Платон пытался взаимодействовать с тиранами – по крайней мере, его сиракузская эпопея с Дионисием-старшим, Дионисием-младшим и Дионом, который сменил Дионисия в качестве тирана Сиракуз, были опытными попытками проверки своей теории. Платон, имея с одной стороны политический опыт, с другой стороны – философскую установку, связанную с активной политической деятельностью, с третьей стороны – наследие, оставшееся от размышлений Гераклита и частично от ряда элейских софистов, например, Парменида, который точно так же был озабочен движением, но в отличие от Гераклита попытался перевести движение, изменчивость к парадоксальности, настаивая на том, что само по себе движение есть мнимость и видимость, тогда как его по большому счёту нет. (что-то предполагалось сказать про Платона, который «имея это всё» чего-то с этим делал? Или можно переправить «имея» на «имел» и на этом успокоиться?) Но если нет движения, то есть покой, какая-то стабильность. Для Платона же это противоречие между Гераклитом и Парменидом разрешалось достаточно легко в силу возникшего в сократической философии удвоения мира. И сам Платон зафиксировал это таким образом, что изменчив, текуч, переменчив мир вещей, тогда как мир идей, копиями которых эти вещи являются, как раз статичен, стабилен и неизменен. И, будучи копией мира идей, мир вещей несовершенен в силу того, что он есть копия. Поэтому задачей, миссией, сверхзадачей, целью философа и правителя, политика в этом смысле, является восстановления статус-кво, т.е. приведение портящейся копии к исходному состоянию.
Но мне важно сейчас не эта философско-практическая сторона философствования Платона, а то, что Платон, зафиксировав различие неких первообразов существующих и данных в опыте вещей в виде идей, положил эти идеи как нечто неизменное, статичное, раз и навсегда предзаданное и вечно существующее. В принципе, для того чтобы обсуждать идеальный план или устройство идеального плана достаточно уже самого платоновского представления о мире идей, но это различие, которое я сейчас пытаюсь вам донести, заключается в том, что в отличие от платоновского неизменного, статичного, неподверженного изменениям и порчи мира идей, идеальный план таковым не является (рис.1).
Рис.1
Более того, тот идеальный план, который занимает достаточно большое место в той версии философии, которую я обсуждаю, вообще не содержит того, о чём думал Платон. Он не содержит в себе первообразов тех вещей, которыми наполнен мир и которые даны в человеческом опыте, более того – причиной того, что мы видим мир, состоящий из вещей, является соответствующее устройство идеального плана.
По большому счёту, именно Платон задал впервые идеальный план через такую онтологизацию и фактическое удвоение мира, но при этом с рядом соответствующих атрибутов и обстоятельств, которые этому сопричастны. Например, как он себе представляет отношение или причастность людей к миру идей. Поскольку в отличие от мира вещей – портящегося, находящегося в изменении и в этом смысле определяемому временем, платоновский мир идей покоится в вечности, находится вне времени, то уже это обстоятельство делает эти два мира трудно доступными друг для друга. Тогда Платон в своих рассуждениях вынужден как-то обсуждать, каким образом люди могут знать что-то про идеи, про мир идей, тогда как постоянно в опыте они имеют место с вещами, а не с идеями. И здесь развитой гносеологии относительно идей у Платона нет, но, тем не менее, у него есть концепция мимесиса, или припоминания, которая заключается в том, что человек сам по себе является не однородной, а комплексной штукой, имеет комплексное устройство и, в частности, душа человеческая сопричастна или со-природна миру идей и до рождения, а может и после смерти так или иначе взаимодействует с идеями и поэтому в этой жизни, в посюсторонней жизни человек припоминает то, с чем его душа соприкасалась или взаимодействовала в мире идей.
Я сейчас пока опускаю критику Аристотеля относительно такого представления (потому что Аристотель привнес совершенно другую версию про идеальный план), и сразу перескачу к платоникам первых веков нашей эры, поздней Академии, некоторым христианским мыслителям и потом к неоплатонизму эпохи Возрождения. Представление о таком удвоении мира заставляло всю последующую платоновскую традицию обсуждать, дискутировать, проблематизировать определенные темы – в частности, всем известный вопрос об универсалиях, имевший разные формы, в том числе, онтологическую, мог ставиться так: а как существуют эти идеи? То, что они существуют, особому сомнению не подвергается, но как они существуют, именно как соответствие общим понятиям или как первообразы конкретных вещей? С другой стороны, обсуждается сопричастность людей идеям, и поэтому схоласты вынуждены были ввести идею трансцендирования или трансцендентальности относительно как самих идей, так и всего этого мира. Трансцендентальности, т.е. не посюсторонности, а потусторонности всего того, что может быть в идеальном плане. И это ещё больше усложняет проблему сопричастности людей, находящихся в отношениях с миром идей и с протоидеальным планом, про который я должен говорить.
Д.Г. – Трансцендентальность – это от Платона?
В.М. – Да, это от Платона.
Т.В. – У меня затык с Платоном, с миром идей и устройством идеального плана. Платоновский мир идей – это протоидеальный план или это определённое устройство идеального плана, ну, это удвоение?
В.М. – Ну, вот смотри, давай разгребём. Платон не обсуждает идеальный план. Собственно, в том разрезе, в котором я его пытаюсь обсуждать, его особо никто не обсуждает. Соответственно, обсуждая его как идеальный план, как пространство работы, …
Т.В. – Кого его?
В.М. – Идеальный план.
…я вынужден обращаться ко всему знанию, накопленному человечеством, потому что так или иначе круг проблем, круг вопросов, которые обсуждаются в разных философских школах, корреспондирует с той проблематикой, которая возникает у меня по отношению к идеальному плану.
Т.В. – Я про другое. Вы в начале говорили, что устройство идеального плана всякий раз (или я так поняла) могло бы характеризовать существование каких-то философских школ. Если совсем огрубить, то у всякой философской школы имеется собственное устройство или чертежи устройства идеального плана, то есть того, как они работали… Нет?
В.М. – Здесь придется сделать ещё одно отступление. Идеальный план в той версии, в которой я его вам излагаю, есть всего-навсего идея. Идея, отвечающая для меня на целый ряд вопросов, затыкающая определённые разрывы в философствовании, и в качестве таковой может использоваться сейчас только мной. Через то, что у меня появляется такая идея, я начинаю иначе относиться к тому, что я знаю из истории философии и вообще знаю. И через эту инаковость я переосмысливаю, переинтерпретирую то, что знают другие. В общем, я вас призываю переинтерпретировать определённым образом то, что вы знали до этого. И эту переинтерпретацию, введение новой идеи, скажем, в одном месте в «Полемических этюдах» я называл модернизацией. То есть, грубо говоря, с появлением новой идеи, которая заставляет меня переосмысливать и переинтерпретировать имеющееся у меня знание, я вынужден осовременивать то прошлое историческое знание. Что значит осовременивать? Приписывать ему то, что я сегодня знаю, и чего не было там.
Т.В. – Это понятно.
В.М. – Понятно, да?
Ю.Г. –Какой-то принцип должен быть переписывания, это не может быть просто так. Должны быть какие-то критерии, по которым Вы проводите эти параллели. Вот для меня, например, тоже не очевидно то, что Вы говорите про мир идей Платона и про идеальный план – для меня не очевидно, что тут есть связь. Идеальный план – это пространство работы. В данном случае, если переводить это для Платона, то идеальным планом было бы то, где сводился мир идей и мир, где все изменяется, т.е. там, где это осмыслялось бы.
В.М. – Понятно. Т.е. мне понятно, что я непонятно говорю. Я, по большому счету, сейчас сказал два способа отношений людей в практике и в жизни: с идеальным планом «по-моему», и с миром идей «по Платону». Более того, я бы сказал так (проводя модернизацию в этом месте): я приписываю платоновскому миру идей те качества, атрибуты, модальности, которые я обнаруживаю в идеальном плане, имея такую идею. И я сказал про мимесис и про политику. Для того, чтобы мне лучше вас понимать, когда вы что-то не понимаете из того, что я говорю, мне бы, например, хотелось тогда узнать: когда я рассказывал только что про биографию Платона, куда вы это клали? На хрена я рассказывал про биографию Платона и Гераклита?
А.Е. – Задавал генеалогию.
Т.В. – Пока вы рассказывали про биографию и не сказали ничего дальше, непонятно, куда Вы её кладёте.
В.М. – Рассказывая про биографию, я сказал, что Платон зафиксировал в мире идей состояние вечности и неизменности для того, чтобы противопоставить его текучести и изменчивости мира вещей, среди которых он вынужден жить и среди которых ему хотелось бы стать тираном. Соответственно, когда он хочет стать тираном, он имеет определённый план, говорю я. И этот план описан в социально-политической философии Платона – в «Государстве», в «Законах», касается он этого и в других диалогах, по большому счету, в представлении об Атлантиде и «идеальном государстве», которое состоит в следующем: есть небольшая группа старцев, которые, выйдя на пенсию после армии, определяют, что должно твориться в городе. Как они определяют? – Определяют они, зная некоторое число. Что это за число? – Хрен его знает. Какое-то пифагорейство, золотое сечение или ещё что-нибудь. Но фактически они через знание этого числа определяют способ размножения всех остальных людей в этом городе, для того чтобы зафиксировать и стабилизировать воспроизводство правителей, стражей и т.д. Каким образом эти правители, или сам Платон, думая, что он мог бы править этим городом, мог бы вменить другому, что нужно поступать так, как он говорит, так, чтобы он понял, что он говорит? – Только единственным способом. Платон на уровне мимесиса припоминает, как должны быть устроены вещи, поскольку его душа сопричастна миру идей, как и душа всякого философа, и он вменяет это другому человеку, но через апелляцию к вечному, статичному, неизменному миру идей (рис.2).
Рис.2
В этом смысле, говорю я, можно рассматривать платоновский мир идей как редукцию или доведение идеального плана до определенного статичного употребления. В этом смысле можно рассматривать платоновский мир идей как протоидеальный план в очень ограниченном употреблении – для правления, целью которого остаётся поддержание неизменности мира.
А.К. – Может быть я ошибаюсь, но, по-моему, Вы некорректно сказали по поводу Платона, что только философ (Платон собственно), то есть именно его душа соприкасается с миром идей. Насколько я помню, до рождения всякая душа контактирует с миром идей и мимесис доступен, наверное, каждому, и в этом смысле переосмыслил понятие майевтики. Но это же немного другое, чем когда философ помогает вспомнить другому, тот вспоминает и всё хорошо.
В.М. – Ну, во-первых, Платон – это не Сократ. Платон описал метод майевтики Сократа и в этом смысле по отношению к каждой душе можно говорить о том, что мимесис имеет место быть. Всякая душа сопричастна этому. Но тогда такого рода онтология мира вступает в противоречие с социальной концепцией Платона, по которой есть рабы и есть, например, правители. Есть молодые воины, задача которых слушаться правителей, и есть те, которые в многочисленных войнах выжили, стали мудрыми и после 50-ти лет поступают в очередную школу, где их обучают диалектике, геометрии и т.д. И тогда они могут править. И тогда мимесис… я здесь нарисовал по отношению к тому, кто правит, но мимесис является основанием вменения чего-либо правителем подчиненному. Ему говорится, что ты тоже это можешь припомнить и, грубо говоря, я ведь не отсебятину порю, потому что даже правитель Платона не имеет права нести отсебятину. Он всего лишь считывает это из мира идей, напоминая другому, что и он тоже должен это помнить. В противном случае – нелегитимно правление такого рода правителя. И тогда, Платон не обсуждает работу с идеальным планом. Он его специально делает как бы нерабочим. Как бы. С тем, чтобы возможно было работать с ним только строго определённым и заданным образом.
Ю.Г. – Фактически, работает с ним только он сам.
В.М. – Ну, не сам как таковой. Он ведь его онтологизирует – делает его всеобщим. Но при этом эта штука обосновывает определённого рода работу, но там мимесис… Я сейчас скачками иду – наверное, из школьно философии все знают надпись, которая якобы висела на воротах Академии, примерно как на воротах Освенцима до сих пор висит надпись «Jedem das seine».
А.М. – Arbeit macht frei
В.М. – «Arbeit macht frei»? Ну, может быть («Jedem das seine» было написано на воротах Бухенвальда). А у Платона висело «Да не войдет сюда не знающий геометрии». В этом смысле припоминание, вот этот мимесис, Платон должен был бы в свое время – если бы он продолжил эту работу – прописать процедурно. И одна из процедур помимо простого припоминания и интеллектуальной интуиции состояла бы в изучении геометрии. Ну, или всякого рода математики – там пифагорейство приплетается, потому что та форма, в которой существуют идеи в мире идей Платона, тоже как-то должна быть понята. И понималась она примерно так же, как существование идеальных треугольников, квадратов, чисел; и без знания всех этих вещей мимесис недействителен. А откуда берётся знание? Здесь Платон, опять же не прорабатывая какой-то специальной гносеологии, процедурной гносеологии, само по себе знание выводит (как и всякий кастовый идеолог или идеолог стабильного родового общества) из освоения того, что было у предков. Грубо говоря, идея изменчивости всякий раз логически завершается идеей деградации: было когда-то нечто совершенное, устроенное по образу и подобию совершенных, вечных и незыблемых идей, и дальше, попадая в текучий, изменчивый мир, оно портится, портится, портится. Поэтому, на чём зиждется процедурный момент, связанный с образованием? – а Платон очень внимательно относился к образованию – он состоит в том, чтобы порча, которая присуща человеку телесному, исправлялась возведением человеческого знания к более совершенному знанию предков.
Я снял вопросы? Хорошо.
А остановился я, насколько я помню, на идее трансцендентальности, которая была введена схоластами. Фактически идея трансцендентальности, или потусторонности, вещей – или скорее идей, того, по отношению к чему можно ставить вопрос об истинности – идея трансцендентальности освобождает и очищает то, по отношению к чему ставится вопрос об истинности, от опыта, эмпирики и по большому счету, практики. И поэтому там возникают разного рода дальнейшие рассуждения про сопричастность людей — деятелей, мыслителей, познающих субъектов — этому самому идеальному плану. Ничего, если я дальше буду употреблять эти слова — идеальный план — рассказав про модернизацию? Потому что иначе я не умею и не смогу.
Т. В. – Хорошо.
В. М. – В частности, спрашивается: а каким образом вообще возможно познание, если из процедур познания исключить опыт? Как можно вообще обращаться с трансцендентным, с трансцендентальным, в посюстороннем мире?
А.М. – Рефлексия.
В.М. – Ну, до рефлексии дело ещё не дошло. В этом месте появляется категория интеллектуальной интуиции.
Д. Г. – А какой опыт? Что Вы имеете в виду?
А. М. – Эмпирический.
В. М. – Опыт? Имеется в виду опыт — накопленная порча в чём-то.
А. М. – Пальцы в розетку.
Д. Г. – А, ну понятно. Опыт – не как научный метод, да?
В. М. – Какая разница? Чем отличается научный опыт от сования пальцев в розетку?
Д. Г. – Потому что в научном опыте должна быть теория какая-то.
Т. В. – Там тоже небольшая гипотеза есть: убьёт или нет.
А. М. – Падает или не падает? С какой скоростью? А теория уже потом.
Д. Г. – Блин, ну не фига себе.
А. М. – Подожди, ты сейчас рассуждаешь уже пост-декартовскими понятиями.
Д. Г. – Я вот поэтому и…
А. М. – А ВВ говорил про индуктивные.
В. М. – Вот в 19-м веке была очень знаменитая научная семья по фамилии Дарвин. И вот внучатый, нет, не внучатый, а…
А. М. – Правнучатый.
В. М. – Нет, наоборот, дед…
Т. В. – Прадед.
В. М. – Ну короче. Брат деда Дарвина, Эразм, был большим ученым.
Д. Г. – А, ну Вы рассказывали.
В. М. – Играл на флейте перед тюльпанами, а потом фиксировал: ничего не произошло.
Вопрос: – А не перед червями?
В. М. – Я думаю, что он до такой низости не опускался. Вот тюльпаны — это да.
Д. Г. – В общем, я понял.
А. М. – Но ты не согласен, что современный опыт в науке — это то же самое?
В. М. – Я имею в виду категорию опыта так, как она появлялась. Я даже не могу сказать, у кого она появилась: это теряется в глубинах античного мышления. Но, по крайней мере, средневековые схоласты уже вовсю этой категорией пользовались, причём пользовались именно в платоновско-аристотелевском отношении. А Платон и Аристотель, несмотря на очень серьезные расхождения по поводу устройства идеального плана — принципиальные, я бы сказал, расхождения, важные в том числе и для нас — сходились в оценке познавательной эффективности, познавательных качеств опыта. И тот, и другой опыт ни в грош не ставили. Именно поэтому, скажем, потом с этим пришлось разгребаться мыслителям Нового времени. Как реанимировать опыт? И ключевая роль в этом принадлежит родоначальникам научной методологии, научного метода: Бэкону и Галилею. Фактически они в споре, скажем так, с совокупной платоновско-аристотелевской традицией, восстановили познавательное значение опыта.
А. М. – На самом деле скорее Бэкон.
В. М. – И Галилей тоже. Вот. По поводу Галилея надо отдельно разговаривать, но по большому счету идеологом возвращения опыту познавательной силы был, конечно же, Бэкон. Про это тоже можно было бы говорить в этом же разрезе и в этой же теме, потому что потом уже бэконовская линия эмпиризма, эмпирики, опыта и т.д. породила целую школу, целое направление английского эмпиризма, из которого потом вырастает позитивизм, прагматизм, инструментализм и т.д. При этом по большому счёту категория опыта сама по себе не поменялась. Поменялись некоторые представления о работе, но это уже отдельно. Сначала опять же там шла критика идеального плана, но вся эта критика идеального плана упиралась в вопрос об его устройстве. Скажем, Бентам, Милль, ну а так же все ребята, связанные с тогдашней социологией — Сен-Симон, Конт и т.д. — они были вынуждены разбираться с кантовскими заморочками. Кант, продолжая всю эту фигню…
Т.В. – Может мы как-то вернёмся, Вы очень отклонились.
В.М. – Ну давайте вернёмся. В зависимости от того, каким образом мы постулируем или определяем идеальный план, таким образом мы вынуждены строить представление об отношениях деятелей — познающих деятелей, практиков, философов, кого хотите — с этим самым идеальным планом. И поэтому в тезисах я набросал – не так, чтобы очень строго, но, тем не менее – несколько вопросов, из которых потом рождается прото-представление о том, что я потом в своих модернизациях называю идеальным планом.
Т.В. – Владимир Владимирович, подождите. Вы вначале разворачиваете историческую линию изменения идеального плана. Вы уже про это закончили?
В.М. – Ну, в общем, её особо развивать смысла нет. Я её для чего показал? Я показал, что в зависимости от того, какими, скажем так, атрибутами, или каким образом мы фиксируем идеальный план, таким образом строятся вот эти отношения (рис.3).
Рис.3
Т.В. – Я просто спросила, Вы будете это продолжать или нет?
В. М. – Я могу продолжать, но я, показав, для чего это, потом поговорю скорее про то, что в этих тезисах было зафиксировано относительно идеи – идеи, которые что-то говорят нам о том, как устроен идеальный план. Уже более конкретно. Вот сейчас я про что говорил, когда про Платона рассказывал? Что по большому счету Платон ничего не сказал об устройстве идеального плана как идеального плана. Поэтому у него и не развиты гносеологические, познавательные представления. А вот схоласты, немножко иначе повернув это, зафиксировав в ещё большей степени, чем Платон – через трансцендентальность, через идею трансцендентальности – разрыв между тем, что в своей модернизации я называю идеальным планом, и миром, данным людям в их опыте, вынуждены были проговаривать способы, с помощью которых человек может быть сопричастен. Сопричастен чему? Ну, в частности, истине. Или тому, что имеет смысл обсуждать только в идеальном плане. И отсюда рождается целый ряд идей, которые, скажем так, задают познавательную функцию. В частности, эту самую пресловутую интуицию. То есть мы должны отвечать на ряд вопросов, и поэтому, просто уже проговорив про интуицию как про пример, про аналогию, я дальше могу перейти к перечню вопросов. Например, по отношению к идеальному плану, которые, как мне кажется, имеет смысл задавать.
Понятен переход? Итак, если идеальный план обеспечивает эту самую интерсубъективность работы и заботы, то как должен быть устроен этот самый идеальный план, чтобы это обеспечивать? Грубо говоря, помните индийскую басню про то, как три слепца ощупывали слона? И вот в этой басне есть несколько возможностей выводить мораль. Три слепца подошли к слону, один трогает ногу и говорит, что слон похож на колонну. Другой трогает уши и говорит: «Слон похож на лопух». Или что-то такое. И каждый потрогал разные части тела — кто-то хобот, кто-то бивень, кто-то хвост и т.д. — и каждый получил представление о слоне. В результате никто из них не получил полного представления о слоне: слона они так и не познали, не узнали. Обычно говорится про это как про ограниченность эмпирического познания вещей. Но там ведь есть очень интересный момент в этой басне, который состоит в следующем: слепец трогает ногу слона и говорит: «Ха, это же колонна» — а откуда слепец знает про колонну?
Т. В. – Это та штука, которую я трогал в прошлый раз, вы помните? А они говорят – да.
В. М. – И в этом смысле, что делает слепец, потрогав и получив некий эмпирический опыт про слона? Он возводит его к тому, что другие слепцы должны знать. По идее. То есть они должны про колонну что-то знать. Предполагается, что колонна была там, что другой слепец, например, тоже трогал раньше колонну. И с этим понятно: когда мы трогали что-нибудь, когда-нибудь, то мы можем взаимодействовать друг с другом по отношению к тому, что кто-то что-то трогал. Я ещё могу неприличный анекдот про чукчу рассказать. Но не буду. Просто не совсем уместно для такого рода лекций.
Д. Г. – Университетское образование не позволяет.
В. М. – Но здесь проблем не возникает. А вот как, на основе чего возможна коммуникация по отношению к нечувственным вещам? Трансцендентальным?
А. М. – Умозрительно.
В. М. – Так вот как должен быть устроен идеальный план с тем, чтобы мы могли получить такую возможность интерсубъективной коммуникации? Вне чувственного опыта. Это первый вопрос. Второй вопрос: идеальный план…
Ю.Г. – А ответ?
В. М. – Сейчас все будет.
Т. В. – Решили задать нам пятнадцать вопросов, ну и потом скажете…
В. М. – А ответ на все вопросы один. То есть так: один, но их много на самом деле. Идеальный план обеспечивает удержание содержания, знаний, идей, их трансляцию и потребление. Опять же, как должен быть устроен идеальный план, чтобы их обеспечивать?
Т. В. – А вот эти вопросы – когда Вы их задаёте, то Вы говорите: он должен то-то и то-то. А Вы откуда их берете?
В. М. – Из предыдущих лекций. Вы еще помните, о чём я говорил в прошлые разы? В каждой…
А. М. – А почему ты спрашиваешь, Таня? А откуда ты берешь вопросы?
Т. В. – Нет, ну там же стоит утверждение. Он должен обеспечивать то-то и то-то, а как он должен быть устроен, чтобы обеспечивать то-то и то-то? И каждый вопрос — это утверждение об устройстве идеального плана.
В. М. – Я почитаю предшествующий абзац из тезисов. Ты читала тезисы? Смотри, там написано во втором абзаце: «в том представлении философии и философствования, которое я разворачиваю в этом цикле, идеальному плану отводится центральное место. Вокруг него, так или иначе, разворачивается содержание всех линий моего рассуждения. Но о самом идеальном плане было сказано очень мало. Чтобы начать о нём говорить, необходимо поставить ряд вопросов по отношению к нему как таковому, и по отношению к его месту в системе философии и философствования.
И вот эти утверждения, с которых начинаются эти пять пунктов – во-первых, во-вторых, …, в-пятых — все утверждения берутся из прошлых лекций. Я об этом, так или иначе, говорил. Что? Этого не достаточно? Точно? Ну, хорошо.
Значит, удержание и трансляция содержания. Третье, это превращение частного, локального, индивидуального во всеобщее, ну или просто общее. И опять же, как должен быть устроен идеальный план? Четвёртое: поскольку идеальный план определённым образом удваивает или мультиплицирует мир, добавляет ещё один план к самому миру, то как он вообще вписывается, чем он является для самого мира? И каким образом он не тождественен миру или остальным мирам, и тем не менее сопричастен ему? Ну и в-пятых: поскольку, в отличие от Платона, идеальный план в моем изложении изменчив, то как он опять же должен быть устроен, чтобы не окостеневать, не превращаться в то, что описывал Платон в его мире идей или не превращаться – если без мистификаций, без трансцендирования – в догматическую энциклопедию. Наверное, ещё какие-то вопросы можно поставить по отношению к идеальному плану. Каким образом, например, идеальный план присутствует в активности людей, их практической деятельности? Что-то ещё можно спросить и т.д. Но неправильно было бы спрашивать про онтологический статус идеального плана. Как только мы начинаем спрашивать про онтологический статус, мы попадаем в ситуацию, где наше познание никак и ничем не обеспечено, кроме фантазирования.
А. М. – Что Вы понимаете под онтологическим статусом?
В. М. – Ну, например, так, как это задавалось Платоном или кем-то другим…
А. М. – Почему вообще возник этот вопрос про онтологический статус?
В. М. – Ну а идеи, они где?
А. М. – На онтологической доске.
В. М. – А доска — это что?
А. М. – Деятельность.
В. М. – О. Сама по себе деятельность тоже может быть онтологизирована.
А. М. – Нет, ну подождите. Какими средствами?
В. М. – Например, через приписывание статуса существования каким-то вещам, которым мы приписываем деятельность. Ну, скажем, секреторная деятельность желез внутренней секреции. Это деятельность?
А. М. – Нет, конечно.
В. М. – Ну вот смотри…
А. М. – Вот почему я спросил, поймите меня правильно. Вы почему-то приплетаете сюда всякие онтологические представления, но я остановился на уровне онтологической и оргдеятельностной доски. Я прекрасно представляю, откуда что берётся и что означает там этот статус — это просто нахождение на онтологической доске. Это значит, что я понимаю, как это употреблять.
В. М. – Ну вот до этого…
А. М. – Подождите, я договорю. И сейчас для меня никаких других способов онтологического полагания в принципе не существует. Поэтому…
В. М. – Ну и хорошо. Я тогда могу тогда заменить, не настаивая особо на каких-то таких вещах, на натурализацию или реификацию идеального плана, а не онтологизацию.
А. М. – Понял.
В. М. – Потому что само по себе такое употребление категории «онтология» достаточно новое для философствования, но не является широко распространенным. В принципе какая-то рефлексия по отношению к этому присутствует в легкой степени в гегельянстве, чуть больше в феноменологии, но…
А. М. – Я почему задаю этот вопрос? Мы уже мыслим после ММК, либо мы опять на таком же на таком уровне, что и ММК существует и всё остальное…
В. М. – Ну я пока про то, что да – и ММК существует и всё остальное.
А. М. – Ясно.
В. М. – Про отношение ММК с философией как таковой, я думаю, надо будет поговорить, но несколько позже. Тут для меня не хватает целого ряда линий, которые надо затронуть, чтобы об этом поговорить.
Так вот. Значит, я возвращаюсь к тем вопросам, которые были заданы. Надеюсь, что пусть без удержания их целиком, в комплексе – по крайней мере, если вы удерживаете один-два из этих вопросов – то понятно, что ответ на эти вопросы тоже представляет собой некую идею. По большому счёту я сейчас перечислю несколько вариантов идей, которые, с моей точки зрения, могут пониматься, трактоваться и интерпретироваться в той философии, которую я перед вами разворачиваю, как структура идеального плана. Или как ответы на то, как возможно, чтобы идеальный план удовлетворял тем условиям, которые обозначены в утверждениях и поставлены как вопросы.
В частности, идея платоновского мира идей – она сама по себе именно такова. То есть Платон, выдвигая идею своего мира идей, отвечал на эти вопросы. Но этот вопрос сразу же тянет за собой, как я уже показывал, целый ряд каких-то процедурных предположений, домысливания или формулировки тех или иных способов действия. И тогда можно чётко обозначать разного рода практики, в которых такого рода структура идеального плана обеспечивает, например, интерсубъективную коммуникацию, удержание содержаний, их трансляцию и применение, превращение частного и локального в общее и всеобщее и т.д. По большому счёту, мир платоновских идей и был интегральным ответом на все эти вопросы. Но, соответственно, все эти ответы были действительны только в той локальной и узкой практике, или практической ситуации, до которой простиралось платоновское мышление.
У схоластов всё это было, скажем так, гораздо сложнее – во-первых, потому что у них были всякий раз гораздо более сложные отношения с практиками, а во-вторых, потому что к этому времени – от Платона до схоластов – институт философии развился до такой степени, что идея в этом институте через тавтологию и диалектику порождала ещё ряд маленьких, локальных, специальных, узких вопросов, которые так или иначе втягивались и выкладывались в идеальный план, превращались затем в знание, транслировались; и для того, чтобы начать рассуждать дальше, их все надо было усвоить и ими пользоваться. Но рядом с этим платоновским миром и трансцендентальностью возникает идея — ну, не возникает, а должна быть проговорена, потому что она везде употребляется — идея априорности.
Идеальный план, или структура идеального плана состоит из неких априорных… постоянно не хватает мне слов в этих лекциях… из априорных штук.
А. М. — Хреней.
В. М. – И вот здесь, когда мы доходим до идеи априорности, мне придётся проговорить несколько вещей и вернуться опять в античность, чтобы вспомнить Аристотеля. Потому что в отличие от Платона, который просто-напросто, не долго думая, в своем мире идей удвоил всё, что существует в мире, и практически каждой вещи (из которых, как он думал, может состоять мир), поставил в соответствие идею. Но фокус, опять же, состоит в том, что если задуматься о второй стороне проблемы, связанной с Гераклитом, и мы вспомним, что мир, оказывается, может быть представлен не как состоящий из вещей, а состоящий из событий, из со-бытий, то всё окажется совершенно не так просто.
И поэтому Аристотель, критикуя Платона, может быть, не формулируя это таким образом (по крайней мере мне не известна такая формулировка), – приходит к тому, что вообще в идеальном плане мы имеем дело не с удвоенными вещами, а с некими формальными категориями. В отличие от Платона, который просто-напросто удваивал мир на «мир сущий» и «мир идей», у Аристотеля возникает идея формы и содержания. И поэтому по отношению к истине и по отношению к тому, что находится за пределами чувственного эмпирического познания, Аристотель предлагает применять категории. Категории не имеют репрезентации в мире вещей. Категории схватывают скорее отношения, события, модальности, ещё какие-то такие штуки – но не вещи. Отсюда: аристотелевское учение о категориях содержит принципиальное отличие от платоновского натурализма, натурализации идей, и выводит то, что можно приписать в качестве идеального плана аристотелизму, из мира вещей, из вещности. (Здесь «выводит», я так понимаю в значении «выводит за границы»? Читается очень похоже на «выводит» в смысле логического или какого-то другого вывода. Или мне кажется?)
И все эти категории так или иначе априорны, поэтому Аристотель прописывает целый ряд этих категорий и затем дополняет этими априорными категориями априорные же правила комбинирования идей, связанных с вещами. Идеи, связанные с вещами, он помещает в силлогистику, комбинируя их, но при этом сами силлогизмы строятся на основе применения априорных категорий. Ну, например, общее и частное – какие-то такие штуки, которые заложены сами по себе в правила построения силлогизмов. Туда же помещаются родо-видовые отношения и т.д. И поэтому для Аристотеля и аристотелизма в чистом виде несущественны были бы те проблемы, которые волновали схоластов относительно существования общих понятий. Существования как такового, в таком натурализованном виде, в рематическом пространстве, поскольку для Аристотеля это всего-навсего априорные категории, которые задают определённую познавательную сетку — через это всё мы видим и воспринимаем тот или иной мир.
Но здесь же, обсуждая эти вещи, необходимо вспомнить – не по отношению к Аристотелю, а продолжая набор ответов на то, каким образом устроен идеальный план – необходимо вспомнить про язык как таковой, потому что сам по себе естественный язык представляет ответ на те вопросы, про которые я говорил выше. Фактически, наличие языка само по себе для большинства трезвомыслящих людей является ответом на эти вопросы – в частности, про интерсубъективную коммуникацию. Как возможно людям понимать друг друга? Ну, как возможно — они разговаривают, пользуются общим языком. И долгое время вне философии все эти вопросы – даже если они возникали – и закрывались языком, до тех пор, пока уже современники Канта (например, Гумбольдт) не начали обсуждать язык именно как протоидеальный план, или саму по себе сферу языка как сферу идеального плана. Ведь фактически, когда мы что-то соображаем, когда мы мыслим, задаём вопросы, проблематизируем и т.д. – мы являемся заложниками того языка, которым пользуемся.
А. Е. – А куда Аристотель помещал категории? Он определял какое-то пространство?
В. М. – Нет. Он не определял пространство, потому что идея энтелехии, идея априорности, идея различия формы и содержания для Аристотеля снимала эту проблематику натурализации или онтологизации в идеальном плане. Потому что … как бы это сказать…
С. М. – А как это она снимала?
В. М. – Можно ли – даже если следовать такой простой житейской логике – можно ли представить себе форму вне привязки к содержанию?
С. М. – Как бы нет.
В. М. – Да. И поэтому – существуют формы. Формы — это то, что не является сущностью, помещаемой куда-то в мир. Точно так же, как язык. Где существует язык? Где существуют слова? И там, на самом деле, другие проблемы возникают – они возникают, например, уже в последующем, по отношению к структуралистам и постструктуралистам. Вопрос может быть дурацкий, но он выводит на эту проблематику: а что первично в связке знак-означаемое?
А. М. – Знак.
Т. В. – И что он означает?
А. М. – Что он означает? Ну, какая разница — найдём. Будем подставлять разные объекты, какая разница. Удовлетворяет условиям знака – значит есть.
В. М. – Вот если для Платона очень важно было существование некоего идеального треугольника, то для Аристотеля в этом смысле треугольник есть форма вещей, и нет необходимости реифицировать сам треугольник как таковой. Точно так же, скажем, есть набор букв, из которых мы собираем знак – например, слово или язык. Где существует тот шаблон – или как это называется у наборщиков? – какая-то фигня, в которой мы должны эти буквы собрать именно в этом порядке? Но форма слова возникает, когда мы собрали.
А. М. – Вопрос-то был про категории. А категории у Аристотеля простые: причина…
В. М. – Ну и где они существуют?
А. М. – Движение там…
А. Е. – То есть фактически вот этого удвоения у Аристотеля нет.
В. М. – У Аристотеля удвоения как такового нет – вот этого онтологического удвоения, что существуют два мира, например, и т.д. Но он отвечает с помощью категорий на эти вопросы, поэтому он – точно так же как Платон – не говорит об идеальном плане, но он создаёт его структуру. Создаёт её в «Аналитиках», в трактате «О категориях», в «Топике» – создаёт и описывает.
Из чего состоит идеальный план — модернизирую я Аристотеля. Он состоит, например, из категорий и мы схватываем многообразие мира в категориях вещей, например. Вещи не существуют. Существует столб, человек, видеокамера или ещё что-нибудь. Но это мы их схватываем в форме вещей. Точно так же не существует отношений или свойств, но мы схватываем нечто таким образом. Камера – маленькая, стул – чёрный.
А. М. – Что-то тут не так. Дело в том, что Аристотель всё в чисто логическом плане мыслил про категории, у него…
В. М. – Он всё умел в логическом плане мыслить.
А. М. – …родовое понятие про категории. И вопрос возникает именно об этом – логические сущности по Аристотелю, категория как логическая сущность. Оно как существует? Вот я про это. То есть, когда Вы говорите о том, что он выстраивает идеальный план, для меня это совершенно… Я согласен, но …
В. М. – Но смотри…
А. М. – …для меня тогда идеальный план существует скорее в коммуникации.
В. М. – Но смотри: Аристотель ведь нигде про это не писал. При том, что…
А. М. – Про что не писал?
В. М. – Про то, где существуют категории, и где существует форма. При этом к Аристотелю возводится слово «метафизика». Но у Аристотеля никогда не было метафизики, текста такого, книги. Это Апполоний Родосский…
А. М. – Это Апполоний просто так назвал: «Метафизика».
В. М. – Просто корпус текстов, которые при издании должны были предшествовать «Физике», были названы «Метафизикой». И фактически, при всём при том, что Аристотель сам этого не делал, потом с аристотелевскими текстами это было проделано и возникла эта фигня, называемая «Метафизикой». Но то, что роднит метафизику, которую придумали по мотивам Аристотеля, и самого Аристотеля — это то, что он об этом не говорил. Для него метафизика как таковая, она наполнена априорным содержанием, которое дано — он тоже особо не обсуждает, про интуицию, там ещё что-нибудь и т.д. и т.д. Про познание он уже больше говорит, чем Платон, но все равно развитой концепции познания у него нет.
А. М. – Ну это типа так: «Физика» дана зрению, а «Метафизика» — умозрению.
В. М. – Априорно, да.
А. М. – Вы знаете, там ещё один нюанс есть. Если мы вспомним корпус сочинений Аристотеля – они все носят классификаторский характер.
В. М. – По большому счету да.
А. М. – Он сначала классифицирует там физические объекты…
В. М. – Потому что по большому счёту, главные категории, которыми пользовался Аристотель, должны были обеспечить фигуры силлогизма, грубо говоря, должны были схватывать родо-видовые отношения общего и частного. Отсюда вся эта озабоченность набором категорий. И в этом смысле для чего это нужно? Смотрите опять на вопросы, которые я задаю по отношению к этому. Идеальный план превращает частное и локальное в общее и всеобщее, и должен каким-то образом связывать эти вещи между собой. И даже если Аристотель не говорит о наличии идеального плана, где хранятся эти категории, куда они помещаются и т.д., а даже если и говорит – это можно приписать ему определённым образом, примерно так же, как ему Апполоний Родосский приписывает «Метафизику» (я скажу об этом позже) – даже если говорит об этом, то говорит он предельно формально. Приписать ему можно в этом качестве «Топику» – топику как систему мест: не какую-то онтологическую, рематическую действительность, а как совокупность мест. Где эти места? В рабочем пространстве, грубо говоря.
А. М. – Я не помню это у Аристотеля, но знаю, как обсуждалась проблема единичности у Платона: существует, например, идея… (неразборчиво) Почему вопрос возникает относительно Платона? Потому что там идёт сверху вниз – от общих понятий к частным. А вот у Аристотеля такая проблема как бы и не стояла. Почему? Всё как раз наоборот: идет уровень обобщения. И в этом плане он не говорит, что категории существуют сами по себе – нет, это просто предельно обобщенные какие-то понятия. Вот как я себе сейчас закумекал…
В. М. – Ну примерно так, насколько я помню. Например, я говорю, что у Аристотеля нет метафизики, поэтому, когда я, например, знакомился со схоластикой, странность состояла в том, что вроде бы схоласты аристотелики, а бьются над платоновской проблематикой. Какого хрена, спрашивается, если у Аристотеля всего это нет, более того, в аристотелизме вопросы про универсалии вообще глуповато звучат. А берётся это примерно из таких вопросов, которые сейчас Андрей задал, которые по отношению к Аристотелю можно поставить. А при наличии у Аристотеля текста под названием «Метафизика», при всём при том, что критики текстов – вот такой исторической – в схоластике ещё не было, поэтому они работали в институте философии, в котором им преподносилось это как метафизика. И поэтому через эту метафизику они создавали это метафизическое, трансцендентальное пространство, в которое помещали эти самые формы и т.д. Вопрос состоял только в том, как они существуют – то есть, грубо говоря, редуцирование через «Метафизику» аристотелизма к платонизму.
А. Е. – Насчёт того, что они аристотеликами были – не помню у кого, то ли у Умбэрто Эко, то ли у Поппера, с его разборками с Платоном – он как раз рассматривал, что скорее они были платонистами, чем аристотелистами, потому что сначала стали доступными работы Платона, а потом работы Аристотеля.
В. М. – Нет, не так. То есть, это можно как бы попытаться реконструировать, но насколько я представляю себе, то смотри: первые века нашей эры, когда христиане через апологетику, патристику, вплоть до Августина Блаженного, который собственно построил окончательную модель платоновского мира, с градом божьим и градом земным и т.д. – и схоласты знали вот это, а сами тексты Платона на греческом языке стали доступны в большей степени только в Новое время гуманистам Возрождения. И они уже через Платона начали критиковать Аристотеля. Тогда как просто христианизация философии заставляла – плюс наличие «Метафизики» – заставляла схоластов средневековья читать Аристотеля по-платоновски.
А. М. – Нет, Вы путаете. Там просто… допустим, Ориген, Полтин, да? Плотин был в неоплатонической школе, и он был последним пред-христианским, или он уже был первых христианским философом?
В.М. – Нет, он не был ни христианским, ни пред, он был параллельно.
А.М. – Ну, я к тому, что он был одним из первых.
В.М. – Но его проблематика, которую он обсуждает, целиком корреспондирует тем проблемам, которые обсуждали христианские мыслители того времени.
А.М. – Но, тем не менее – он чистый платоник, он его читал, знал и т.д. и уже от них пошли, до Августина Блаженного…
В.М. – Ну, подожди, Плотин – он так и остался в Византийской традиции. Схоластом…
А.М. – До схоластов тыща лет!
В.М. – До схоластов ещё почти тысяча лет. И всё это забыто было. Поэтому я и говорю, что платонизм остался в первые века нашей эры…
А.Е. – Вопрос, как остался. Он весь перетёк – если библейские чтения вспоминать – в христианскую доктрину.
В.М. – Точно, перетёк – но не непосредственно перетёк, а скорее в виде некой картины мира.
А.Е. – Всё равно получается тогда, что они Аристотеля прочитывали через Платона.
В.М. – Про что я и говорю: читали они Аристотеля, но в силу этих двух обстоятельств, а именно: в первую очередь, что им была преподана патристика, а во-вторых, наличие «Метафизики», которую они приписывали Аристотелю, и вынуждены были её трактовать через этот трансцендентальный мир.
А.Е. – Ладно, это я перебил, когда ты уже про язык говорил.
В.М. – Да. Так вот с языком примерно та же ситуация, потому что даже нерефлексивно и без особого философствования на все вопросы, которые были заданы, можно ответить с помощью идеи языка. Проблема в другом…
А.М. – Подождите. Вот идея языка Гумбольдта – это платонизм чистой воды.
В.М. – Нет, это не платонизм, потому что и Гумбольдт, и Соссюр уже после кантовской критики обсуждали язык, и в этом смысле – просто потому, что язык в этом качестве снимает эти вопросы, я вынужден говорить о нём раньше (хотя, по большому счёту, ничего меня не вынуждает, просто я сказал об этом раньше) – по большому счёту, можно было бы сказать, что первым серьёзным шагом в ответе на поставленные вопросы необходимо рассматривать идею трансцендентального единства апперцепции у Канта. Потому что логическая последовательность разворачивания идеи сознания…
А.М. – Можно один вопрос? Вот Вы когда обсуждали платонизм и потом перешли к Канту, я услышал так, что платонизм перекочевал на Канта, к его заданию диалектики.
В.М. – Нет, я такого пока не говорил.
А.М. – Ну, короче, в категории.
В.М. – Нет, категории кантовские – они от Аристотеля тянутся, а не от Платона.
А.М. – Так вот, в этом плане, мы сейчас, когда говорим про идеальный план, мы говорим про этого трансцендентального субъекта кантовского? Или про категории?
В.М. – Вот не про субъект трансцендентальный, и через это – априори (я говорил про категорию априорности), я говорю сейчас про идею трансцендентального единства апперцепции как про идею, отвечающую на вопросы. Например, как возможна интерсубъективная коммуникация? И если по Лейбницу, с его монадами – никак (ну, хотя там есть одна зацепка, о ней тоже надо было бы говорить – это идея антиципации у Лейбница), то Кант в качестве такого ответа предлагает категорию трансцендентального единства апперцепции. А дальше он вынужден – так же, как я это делаю, и любой другой, оказавшийся в такой же ситуации, должен был бы делать – он производит модернизацию. И фактически обращается к Аристотелю за тем материалом, которым он наполняет трансцендентальное единство апперцепции, и, в частности, он говорит о категориях. Но при этом подразделяет категории, и когда он обсуждает категории рассудка, констралябит систему этих категорий, он, в общем, проделывает ту же самую работу, что и Аристотель. Но проделывает её гораздо рефлексивнее, понимая, по отношению к чему он это делает. Я бы сказал, что Кант, наполняя трансцендентальное единство апперцепции категориями рассудка, рассудочной деятельности, даёт первую развитую структуру идеального плана.
Дальше: гумбольдтовский и прочие языки – в том понимании, как они уже мыслили язык – стало возможным благодаря наличию идеи трансцендентального единства апперцепции. Фактически, язык и обеспечивает это единство апперцепции. И поэтому говорится, что это язык овладевает человеком, и язык, или категории, с помощью которых люди общаются, хранятся не в человеке, и в этом смысле они оторваны от опыта – не надо щупать колонну, чтобы пользоваться словом «колонна». Большая часть вещей, свойств, отношений, событий, фактов – всего, чего угодно – которыми мы оперируем в виде их знаков в языке, не даны человеку в опыте, то есть, он не встречался с этими вещами. Скажем, негры не видят снега, мы никогда не видели пингвинов, плавающих в окрестностях Антарктиды, но мы знаем про многие эти вещи. Никто из людей не видел квазаров, и прочее, и прочее. Но будучи впечатанным в язык, и когда язык овладевает человеком – человек через язык способен и к интерсубъективной коммуникации, и к превращению частного, локального в общее через соответствующую грамматику. Удержание содержания, трансляция его, и все прочие ответы из этого получаются.
Но я бы дальше продолжил перечисление по отношению к этому всему, потому что по большому счёту в разных подходах разные философы ещё несколько раз предпринимали попытки структурирования идеального плана. Это, в частности, то, что тянется от Абеляра к феноменологии, эта самая пресловутая идея сознания – она тоже была соответствующей идеей, с помощью которой Абеляр попытался снимать противоречие в этих ответах, которые рождались в схоластике.
Ещё одну идею, наверное, стоит упомянуть – это идея энциклопедии, которая по большому счёту рождается из доведённого до предела эмпиризма и сенсуализма. И для того, чтобы сподвигнуться на создание энциклопедии, необходимо проделать целый ряд процедур, которые характерны для вот этой самой (какой? «эмпирической»?) философии, которая реанимировала в качестве способности познания опыт. И тогда опыт определённым образом перетрактовывает знание, эти знания фактически складируются в некотором идеальном плане, и здесь сенсуализм, или эмпиризм смыкается с Платоном, но только через обратные процедуры. Если у Платона мимесис заставляет припоминать стабильные, статичные идеи, покоящиеся в мире идей, то бэконовский, берклианский и прочий эмпиризм проделывает обратную процедуру обобщения чувственного опыта, особенно в формах научного или квази-научного познания, приводят к открытию фундаментальных вещей, фундаментальных законов природы, которые складываются и систематизируются в некоторой энциклопедии как неизменные, абсолютные истины.
И последняя идея, которую надо было бы упомянуть в этом ряду, в ответе на то, каким образом устроен или структурирован идеальный план – это идея системы или теория систем в её СМД-трактовке. Скажем так, две развитые формы структурирования идеального плана – это трансцендентальное единство апперцепции у Канта и система, или теория систем, в СМД-подходе, и промежуточным (или связующим) звеном является идея схемы. Здесь опять же, можно было бы сделать длинный экскурс в историю логики – каким образом общие родовые категории превращаются в понятия, каким образом понятия связываются с математическими идеями или какими-то абсолютными вещами, то есть с абсолютизацией и общим универсальным характером, который мы придаём каким-то идеям – это длинная история, и уже на уровне 18-19-го века стало понятно, что способ категоризации знаний через выделение видовой специфики и отнесения к общему роду, предложенный Аристотелем, не срабатывает при идеализации и абсолютизации эмпирического знания. Что некоторым образом априорные категории играют гораздо большую роль, чем эта простейшая процедура приведения к общему роду видовой специфики. Отсюда необходимо было разобрать и расписать по процедурам способность или возможность отнесения чего-то, данного в эмпирическом опыте или в непосредственном практиковании, к идеальному плану. И попытки этого настолько многообразны, что, наверное, мне пришлось бы сменить всю манеру и всё содержание чтения этих лекций. Если вы помните, я начинал с псевдогенетической реконструкции с очень давних времён, – примерно две с половиной тысячи лет назад, как это всё происходило – тогда как всю эту проблематику можно было бы проследить без обращения к античной истории и вообще забыв про все эти древности, и восстанавливая только споры и конфликты, напряжение между философами 19-го и 20-го веков. Например, когда Витгенштейну необходимо ответить примерно на те же самые вопросы, которые я здесь задаю, он обращается к идее языка. Но при этом, что он фактически проделывает: он говорит, что, конечно же, язык – это не порождение способности людей к коммуникации и т.д. (то есть это только одна сторона языка – обеспечение коммуникации), другая же сторона языка связана с тем, что мир повторяет структуру языка.
И в этом смысле наше познание, наше отношение к миру заложено в самом языке. Слава Богу, язык меняется, в отличие от мифологизированных, натурализированных, реифицированнных сущностей, типа мира идей, или ещё чего-нибудь в этом роде. В отличие от трансцендентальности и всего потустороннего, с языком мы имеем дело по эту сторону, мы как бы эмпирически в языке участвуем, или сопричастны языку, поэтому мы точно знаем, что язык – это не раз и навеки данный словарь, с неизменными значениями слов и т.д. Язык текуч, изменчив и т.д., но, тем не менее, при всей своей текучести язык обеспечивает эту связку: мир повторяет структуру языка. Дальше – ну, это я про Витгенштейна перескочил – можно брать более старые споры, вызванные опять же кантовскими проблемами, ну, скажем: как возможны синтетические суждения? Каким образом возможно такое обобщение эмпирического опыта или вообще работа с эмпирическими понятиями, чтобы вообще по отношению к ним возможно было ставить вопросы истинности и отвечать на них? И все попытки научного познания, или методологии и философии научного познания, которые тянутся через английский, французский сенсуализм и эмпиризм к Бэкону – это попытки отвечать через процедуру индукции (в отличие от дедукции, которая характерна для аристотелевского способа работы с априорными категориями), что требует совершенно другой логики, чем та силлогистика, которую придумал Аристотель. И вот целый ряд деятелей первой половины 19-го века бьются над созданием логики, которая отвечала бы на кантовский вопрос о том, как возможны синтетические суждения.
А.М. – Априорные синтетические суждения.
В.М. – Априорные синтетические суждения, но получаемые, а не данные заранее. Потому что если без идеи индукции, без идеи опыта, без идеи познания – это слово «априорные» как бы лишает проблематики всю постановку вопроса, а не проблематизирует.
И в это же время во всех этих спорах возникает идея схемы. Идея схемы тоже как некой конструкции, совмещающей в себе, с одной стороны, априорные качества категорий, а с другой стороны, позволяющей наполнять неким посюсторонним эмпирическим или прочим материалом эти схемы. И вот эта идея схемы как формы организации знания и представление о системах на сегодняшний день являются, наверное, самыми развитыми представлениями о том, каким образом можно рассказать про устройство идеального плана. Но, даже не смотря на развитость этих вещей, – я, наверное, об этом ещё специальную лекцию как-то прочитаю, про системность в организации идеального плана – здесь остаётся целый ряд других проблем. Первая проблема по-прежнему связана с гераклитовской проблемой, то есть с изменчивостью. Фокус ведь состоит в том, что всякий раз вопросы истинности, универсальности, абсолютности предполагают, что то, с помощью чего мы определяем, задаём истинность, универсальность, абсолютность, должно быть не подвержено какому-то изменению. Но и сама по себе теория систем, и, например, крайний, противоположный теории систем случай, естественный язык – и то, и другое являются изменчивым и пополняемым. Таким образом, если мир идей или аристотелевские категории, и даже кантовское единство апперцепции – предполагалось, что это используется для познания или обеспечивает познание; диалектический материализм, построенный на гегельянстве, или ленинская теория отражения – они обеспечивают как бы другое устройство, когда неизменным является мир, а изменчивым является знание; примерно на той же самой идее строится (если я не ошибаюсь, возможно, нужны какие-то специальные аргументы), и попперовская научная методология, с её идеей фальсификации, верификации и т.д. – то вот в этом плане мы должны говорить об изменчивости в практической деятельности субъектов, участвующих в философствовании (практика и собственно, философа) и об изменчивости в идеальном плане (рис.4).
Рис.4
Идеальный план как рабочее пространство, не как оселок, критерий, аргумент в установлении истины, а как то, с чем работают – эта идея, при всей её простоте, я бы сказал, несколько вызывающа. Может быть, и не проблематизирующа, может быть, философы способны поставить гораздо более изощрённые проблемы, но по отношению к существованию института философии, и по отношению к существованию философствования как разговора и рассуждения, идея изменчивости и того, и другого плана – то есть плана практики, эмпирики, и плана идеального, или идеального плана – она порождает некоторую нервозность и лёгкий депресняк.
Например, вспомним многочисленные споры о чистоте языка. Если язык задаёт это самое пресловутое трансцендентальное единство апперцепции, и коммуникация и взаимопонимание между людьми возможно только в силу того, что мы пользуемся одним языком или сопричастны одному языку – то как можно допустить, чтобы язык менялся и разбегался? Мы тогда утратим возможность коммуникации. Ну, и пресловутая история про Вавилонскую башню, и «расцерушыванне» народа – она ведь как раз про это и говорит, что если языки будут меняться, и меняться достаточно интенсивно, то мы утрачиваем возможность понимания. Люди это наблюдают, например, на молодёжных арго, сленгах, на региональных языках, которые возникают, разных говорах, и это порождает целый ряд всяких неудовлетворённостей, которые сродни той самой ситуации, с которой сталкивался Гераклит, Платон (о чём я говорил вначале) – то есть мир портится. То есть если мы допускаем изменение языка – значит, мы допускаем порчу языка. И борьба за чистоту языка сродни консервативно-политической установке Гераклита и Платона на возвращение мира к его исходному состоянию. Но тогда, как только такая установка принимается всерьёз, вообще, сразу же меняется картина мира. Это значит, что мы, скажем так, должны допустить существование некого абсолютного языка. А допуская изменчивость языка, мы должны терпимо относиться к разного рода языковым искажениям, и тем самым, терпеливо относиться и к возможности непонимания. И это порождает целый ряд этических, если хотите, установок.
А.М. – А как насчёт генеративной грамматики?
В.М. – Не знаю. Я про генеративную грамматику ничего не знаю, я знаю только, что язык должен меняться и что мы принимаем непосредственное участие в изменении языка.
А.М. – Генеративная грамматика Хомского говорит о том, что есть ограниченное количество правил употребления знаков, и это ограниченное количество правил даёт безграничное количество значений, и всего остального. И это, кстати, гораздо ближе к кантовскому трансцендентальному субъекту, чем идея языка как какого-то трансцендентального… Потому что здесь есть порождающие правила, есть процессы…
В.М. – Возможно. Я не знаток Хомского, и не очень понимаю про всю эту штуку. Более того, я думаю, что если мы относимся к языку, как к структуре идеального плана, то тогда мы не можем допустить ограниченного набора порождающих форм.
Т.В. – Непонятно, как он должен быть устроен, так, чтобы мы не могли допустить.
А.М. – Вот! А почему мы не можем считать ограниченное количество генериативных правил структурой устройства идеального плана?
Т.В. – Или у Вас есть какая-то версия, как он устроен, но Вы про это ничего не говорите?
В.М. – Нет, вот смотри…
Т.В. – Вы рассказываете, что там должно всё меняться, а как он устроен, Вы не говорите!
В.М. – Я сейчас перескочил на другое, я перескочил на этические установки, уже забыв про эти вещи. В этом смысле, конечно же, я говорю, что язык, так как он устроен, задаёт структуру идеального плана. Она, эта структура, с одной стороны, бесконечна (ну, как естественный язык), с другой стороны, она в этом смысле бесплодна. Она даёт нам возможность понимать, но ограничивает нас в возможностях работы с этим идеальным планом. Понимать мы друг друга будем, но что-то сделать в этом смысле… трудно сказать. Поэтому я ничего не имею против, чтобы генеративная (дегенеративная) грамматика задавала бы структуру этого самого идеального плана. Я говорю, что я не могу так относиться к языку, как к чему-то, имеющему ограниченный набор правил.
А.М. – Почему?
В.М. – Потому что мы тогда смыкаемся с аналитикой аристотелевской, и получим ту же самую фигню.
А.М. – Почему?
В.М. – Сейчас попробую объяснить. Дело в том, что если язык как таковой задаёт структуру идеального плана, то мы тогда понимаем, что идеальных планов должно быть много. Как минимум, по количеству языков, на которых возможно философское рассуждение и философский разговор. А эти языки в принципе, могут быть устроены по-разному. Отсюда: либо мы допускаем, что философствование возможно только на определённых языках, либо, если мы говорим, что философствование возможно на любом языке…
А.М. – Речь идёт о языковой деятельности, при чём тут множество языков? Языковая деятельность одна и та же для всех языков.
В.М. – Я не знаю. Я не настолько глубоко знаю лингвистику и языкознание, чтобы с этим согласиться. Я в этом не уверен. Потому что мне известно о наличии целой кучи искусственных языков, формальных языков и т.д., и я пока не уверен, что их можно свести к какому-то языку.
А.М. – Не к одному языку, а к языковой деятельности.
В.М. – Вот смотри, по отношению к языковой деятельности – там, опять же, сначала надо хорошо понять и разобраться с категорией деятельности как таковой.
А.М. – Это классическая статья Щедровицкого, про языковую деятельность.
В.М. – И что?
А.М. – Там просто как бы… вот сейчас, как я понимаю, все разговоры в лингвистике закончились, то есть они продолжаются, но в принципе, вся эта… то есть Хомский почему такая офигенная фигура, потому что закончил все эти разговоры. Речь велась про три вещи: про языковую и речевую деятельность, ну, в соссюровском таком различении – там знаки, а там речевые знаки, и, собственно, к этим самым порождающим правилам, порождающей грамматике, и всё. То есть в первом случае речь идёт о коммуникативных практиках, в большей степени про это говорят, во втором случае говорят про семиотику и употребление знаков, или немножко другое, письмо и речь, вот это различие, а в третьем случае просто говорят про грамматику – то, как употребляют всё это дело. Ну и всё. А язык… Вы когда говорите про язык, я вообще не понимаю, про что Вы говорите. Структура какая-то у него имеется – это что?
В.С. – А грамматика – это как?
А.М. – Грамматика – это правила вообще.
В.М. – Понимаешь, вообще и в языке, в том числе, есть и структура, есть и правила, и в том числе правила, которые не формулируемые, а исторические. Например, правила словообразования, или ещё какие-то, которые, не смотря на возможность неологизмов, всё же непроизвольны. Нельзя допустить определённое словообразование, которое не заложено в структуре некоторого языка. Но дело даже не в этом. Дело в том, что любая попытка привнести некоторую статичность или предзаданность либо в практику, либо в структуру идеального плана, тем или иным образом ведёт к этим двум формам – как бы это сказать – отказа от деятельности. Или формам такого ультраконсерватизма: либо к платоновскому откручиванию назад испорченного мира к идеальному состоянию, либо к некоторому предсказанному идеальному состоянию, которое выводится из знания статичного неизменного мира, как бы диалектически его не пытались описать марксисты. И здесь возникает пресловутый вопрос о возможности прогнозов или предсказания в мире деятельности. Фокус ведь состоит в том, что при всём при том, из опыта и из рассуждений мы знаем, что антиципация в принципе возможна. Но…
А.М. – Для тупых: что такое антиципация?
В.М. – Ну, упреждение, упреждение движения. То есть, если что-то движется, а я на минутку закрыл глаза, то раскрыв их, я, в принципе, могу перевести взгляд туда, где окажется этот самый движущийся объект. Ребёнок учится антиципации, когда…
А.М. – Ну, я понял, что такое антиципация.
В.М. – Вот. Но антиципация как такое родовое название для прогнозирования, предсказания… что такое?
А.М. – Вот непонятно…
Т.В. – Вообще непонятно, а почему мы перешли к антиципации, к прогнозированию?
В.М. – Я не дошёл просто до последнего момента. В принципе антиципация вообще предполагалась, я просто про это не упомянул – предполагалась в конце сегодняшней лекции.
Т.В. – А! Я знаю: Вы рассказывали всю эту лекцию про то, что во всякие там времена существовали разные идеи, организующие структуру идеального плана – такие-то, такие-то – наверное, про антиципацию туда же?
В.М. – Нет, антиципация туда не относится.
Т.В. – Ну, неважно. И дошли до того, что последнее – это теория систем – это то, что организовывало идеальный план. Потом Вы выдвигаете тезис, что…
В.М. – Подожди, ну я это сказал? Сказал. И вот теперь я говорю, что вообще я работаю с идеальным планом, устроенным в соответствии с теорией систем – это я уже излагал. В другой аудитории, тебе в частности – то есть про устройство идеального плана. Я могу повторить.
Т.В. – Ага! То есть сегодня Вы про устройство идеального плана ничего рассказывать не будете, потому что это и так понятно?
В.М. – В общем, да.
А.М. – А ё-маё!
Т.В. – То есть весь пафос был в том, что «я до этого ничего не рассказывал про идеальный план в лекциях», а сейчас оказывается, что про идеальный план Вы ничего рассказывать не будете, потому что это и так понятно.
В.М. – Подожди, я наговорил здесь много другого.
Т.В. – Да, это понятно. Я жду ответа на вопрос…
В.М. – Но ты понимаешь теперь, что пропедевтика, теория систем, которую ты когда-то прослушала, она обеспечивает наше с тобой трансцендентальное единство апперцепции?
Т.В. – Я понимаю, что Вы так думаете, но я пока не понимаю, что она там обеспечивает, и я не понимаю… Вот у Вас был такой тезис, что идеальный план должен быть устроен так, чтобы была возможна изменчивость в идеальном плане, и в практике.
В.М. – Да.
Т.В. – И теория систем даёт такую возможность?
В.М. – Да.
А.М. – О, у меня вопрос. Я вспомнил. Вот Вы когда говорили про язык, я вообще не догнал, но теперь начинаю понимать. Потому что именно ограниченное количество правил, дающих бесконечное количество комбинаций, позволяет отвечать этому принципу – ну, про изменчивость.
В.М. – Ну, вот я же с этим не согласился. Я в этом по-прежнему не уверен.
А.М. – Ну, этого я вообще не могу допустить. Для меня самая изюминка Ваших лекций заключается в том, что Вы нам сейчас расскажете, что игра на самом деле… а тут языковая игра и т.д…
Т.В. – То есть ты с самого начала всё знал.
В.М. – Я мог бы на самом деле цепануть Витгенштейна дальше, и уйти в обсуждение языковых игр.
А.М. – Ну Хомский снял эту проблему, всё нормально
В.М. – Слушай, ну не знаю я Хомского, более того, он ещё и Чомский, и вообще, полный ретроград, и мне его читать противно. А ты мне: Хомский, Хомский. Не знаю я этого.
А.М. – То есть у Вас идеологические разногласия.
В.М. – Да, чисто из идеологических разногласий мне, в общем, впадлу читать Хомского.
Я не уверен в ограниченном наборе. Но дело даже не в этом. Смотри, чем я хотел закончить. Грубо говоря, я уже обозначал некоторые полюса, в тех или иных формах структурирования идеального плана, но вот этот полюс: от языка, просто как естественного языка, обеспечивающего ответы на все эти вопросы, к теории систем – в этой растяжке, при всём при том, что, когда я говорю, что, конечно же, современные представления структуры идеального плана – в общем, это теория систем, но язык я ведь тоже не исключаю. Более того, поскольку я не исключаю и вот этой штуки, которая связана с языковыми играми и повторением миром структуры языка, то мне приходится говорить следующее: вообще говоря, работая с идеальным планом, мы находимся как бы в таких качелях: от нарративности, просто описательности, одного в другом, и к программированию. Но, работая с программированием, мы попадаем в проблематику деятельности. Если языковая деятельность, или любая другая деятельность – они делают, по большому счёту, невозможными достижение научного идеала, а именно, предсказуемости мира, и предсказуемости будущего…
Т.В. – А при чём тут вообще научный идеал?
В.М. – Потому что идеал науки состоит в открытии законов такого рода…
А.М. – А наука тут при чём?
Т.В. – Какая нам разница? Идеал науки состоит в этом, а идеал ещё чего-нибудь – в другом. И что?
А.М. – А идеал инженерии состоит в том, чтобы какой-нибудь замысел воплотить.
В.М. – Хорошо, я и не говорю, что мы обязаны следовать идеалу науки, я говорю про то, что недостижим в том смысле, что у нас есть затруднения в прогнозировании того, что будет, и в идеальном плане, и в изменяющемся мире и т.д. А жить с этим достаточно сложно.
А.М. – Почему?
В.М. – Потому что, представь себе, что мы живём в спокойном мире, рассуждая и философствуя, только постольку, поскольку вещи в этом мире ведут себя предсказуемым образом. Если бы они начали вести себя не так, как мы привыкли, нам пришлось бы как-то изощряться, нервничать, дёргаться, и т.д.
А.М. – Так это же хорошо.
В.М. – Если бы, скажем, бумажный скотч начал излучать радиацию, а часы, вместо того, чтобы тикать, начали бы пиликать. Но окружающий нас мир – обжитой мир – он, в общем-то, предсказуем. А сама установка, с которой я начинал – на изменчивость мира, «нельзя дважды войти в одну реку» и прочее – она как раз ведёт к отрицанию возможности привычного мира. И мы должны быть готовы к тому, что мир во всех его проявлениях, может вести себя – если он изменчивый – не так, как он вёл себя до сегодняшнего момента, до того момента, про который у нас есть опыт. Ну, скажем, как молодой Юм про это озаботился: оттого, что на протяжении двадцати двух лет своей жизни я видел, что солнце восходит на востоке и заходит на западе, я не могу сомневаться в том, что завтра оно точно также взойдёт на востоке и зайдёт на западе, но быть абсолютно уверенным в этом я не могу. Но, тем не менее, я живу в привычном мире, и что даёт мне возможность в этом мире жить, несмотря на отсутствие уверенности в том, что на основе предшествующего опыта или ещё каких-то вещей я могу предсказывать, прогнозировать, предвидеть то, что будет? Если я кладу скотч на определённое место, то я знаю, что, придя в следующий раз, я найду его здесь же. На самом деле, скотч и поведёт себя таким образом, но люди, в отличие от скотча, они могут вести себя иначе. Они могут его спереть, например.
А.М. – Но если будет какая-то структура идеального плана, то они этого сделать не смогут?
В.М. – Вот смотри. Для чего в этом смысле людям стабилизировать идеальный план? Например, придумывать неизменные правила языка? Для того, чтобы предсказывать поведение людей.
А.М. – Может быть, управлять поведением людей?
В.М. – Может, и управлять, то есть обеспечивать необходимые результаты завтра.
А.М. – Прогнозные показатели, например.
В.М. – Прогнозные показатели, что то же самое. Управлять – значит предсказывать.
А.М. – Ну всё-таки тут есть какая-то разница, между естественным и искусственным ходом. Можно говорить о желаемом будущем…
В.М. – Подожди, я не могу всё сразу обсуждать. Я сейчас говорю про другое, что попытка задать стабильность и неизменность в одной из частей мира есть желание людей сделать возможными прогнозы, с тем, чтобы убрать нервозность и полную неуверенность в завтрашнем дне. Люди пытаются найти – например, в знании – фундаментальные законы, позволяющие предсказывать, например, погодные явления. Или, например, управлять людьми, предсказывать их поведение. Отсюда, скажем так, эти открытия, которые делает Лефевр – я эту басню уже рассказывал, в мифологии ММК – или Поппер, которые говорят, что в мире деятельности прогнозы невозможны. Но тогда: как возможно программирование? Как возможно управление? И вот тогда, как только мы понимаем, что ни одна из двух главных составляющих мира не является стабильной – значит, ни одна из них не позволяет делать прогнозы в другой. Грубо говоря, если мы возьмём две эти части мира, от знака и означаемого, и скажем, что между знаком и означаемым не существует отношений изоморфизма, но между ними не существует – как вот все вот эти языковые игры, они стремятся привести отношения между знаком и означаемым хотя бы к состоянию гомоморфизма, хотя бы так, чтобы существовала не взаимно однозначная…
А.Е. – Подожди, а вот ты нарисовал отдельно развитие знаков и означаемых. Если бы… то есть…
В.М. – Хорошо, тогда вернёмся на несколько лекций назад…
А.Е. – Или это параллельное всегда развитие этих знако-означаемых комплексов как таковых?
В.М. – Ну да, параллельное, они оба изменчивы, при чём эта изменчивость не синхронизирована. Фокус состоит именно в этом. Для синхронизации нужно…
А.Е. – Тогда идеальный мир есть.
А.М. – Подожди, это если мы смотрим с позиции внешнего наблюдателя.
В.М. – Нету. Если есть – то тогда они были бы как раз синхронизированы, ведь при наличии мира идей – платоновского – между миром идей и миром вещей существует строгое отношение гомоморфизма. Одной идее в мире вещей обязательно соответствует одна или несколько вещей. А обратное, вообще говоря, неверно. Потому что было бы совершенно глупо, если бы у этого стула существовало две идеи.
А.Е. – Надо разобраться.
А.М. – Да всё понятно!
В.М. – Поэтому вопрос о том, как возможна антиципация, я подвешиваю, будем разбираться в следующий раз. Антиципация как родовое отношение к прогнозированию, предсказанию, управлению, программированию и т.д. Есть ещё вопросы, замечания, тезисы и возмущения? Я так понимаю, что все возмутились уже ногами, выскочили. И не рассказывайте мне, что здесь кислорода не хватает!
А.М. – ВВ, Вам надо улучшать свои дидактические…
В.М. – Ну, с дидактикой у меня в этой лекции совсем худо, согласен с тобой. Но я пытался рассуждать, на самом деле у меня тут нет каких-то однозначных ответов, то есть ответ есть: я могу выставить теорию систем в качестве организации идеального плана. Фактически, идеальный план есть система. Система, с помощью которой мы сегодня мыслим. В этом смысле можно обратиться к моей статье «Деятельность» во втором издании философской энциклопедии, там про это сказано.
Но дело не в этом. В общем, идея, которая составляет содержание сегодняшней темы, она может быть сформулирована таким образом, но пафос, миссия и назначение сегодняшнего рассуждения – оно несколько ширше.
Т.В. – Контрабандой.
В.М. – Что?
Т.В. – Пафос – контрабандой.
В.М. – Это замечание, я так понимаю. Ещё есть замечания, вопросы, вопрошания? Нет? Хорошо. Спасибо за внимание.