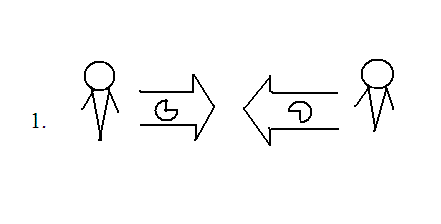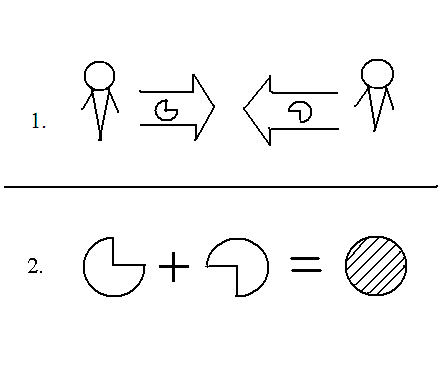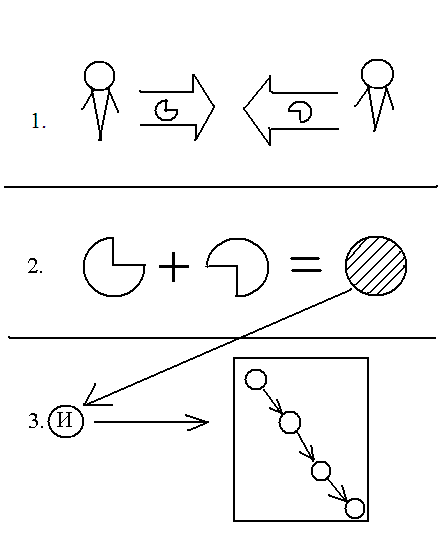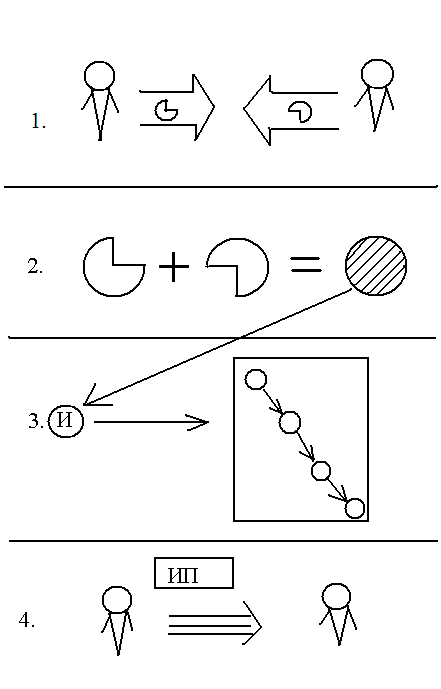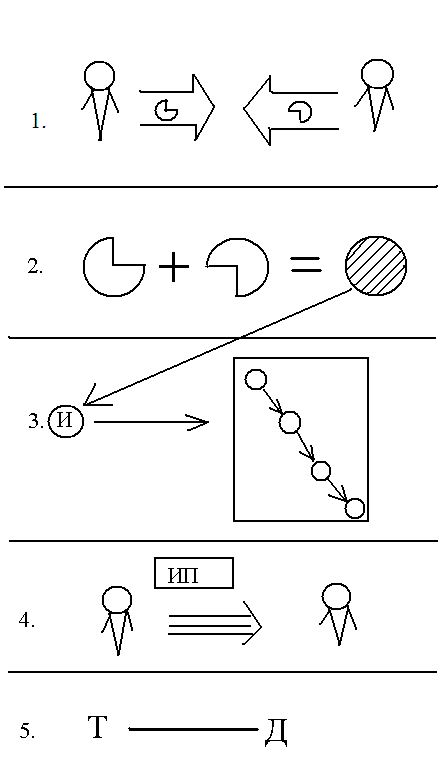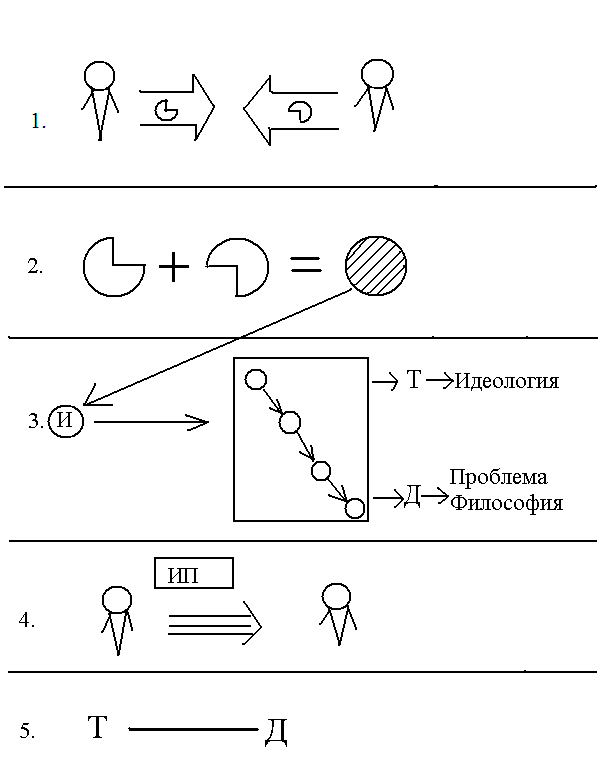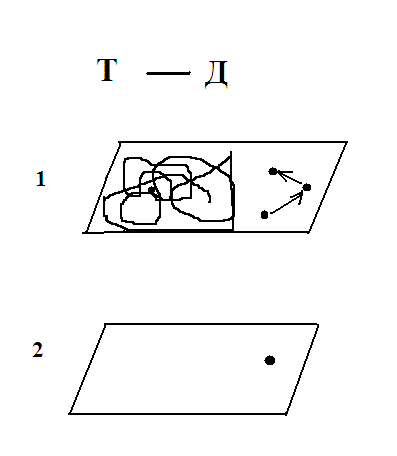Введение в философию. Лекция 9. Работа с идеями и философские заботы: Тавтология и диалектика.
8 января 2009 г.
В.М. – Владимир Мацкевич
С.М. – Светлана Мацкевич
Т.В. – Татьяна Водолажская
А.М. – Андрей Мирошниченко
А.К. – Андрей Комаровский
Д.Г. – Дмитрий Галиновский
Уже девятая лекция, а я не вышел даже на третью часть тех тем, которые я собирался первоначально затрагивать в этих лекциях. Тематическое, содержательное движение в этих лекциях неправильно задаётся. Получается имманентное движение. Я говорю о том, о чём сам размышлял или размышляю в предыдущих лекциях. Тем не менее, сегодня нам придётся некоторым образом собирать разрозненные представления, которые разбирались в прошлых лекциях.
Я начну с того, что напомню, что в прошлый раз я говорил о циклах жизни идей, и эти циклы выводили на онтологическую картинку, представляющую мир во многих плоскостях, во многих пространствах. Такая многоплоскостная картина мира, а сама идея выступала бессодержательной точкой или солнечным зайчиком, который проецируется на разные пространства и есть некий тремор, дрожание солнечного зайчика в этих плоскостях-пространствах, за счёт которого получается наслоение этих пространств. Но, тем не менее, это была такая картинка, представляющая мир, в котором существуют и движутся идеи. Сейчас я ещё раз в этой лекции попробую рассказать о функционировании и жизни идей, но на этот раз немножко по-другому. Рассказывая, скажем, не о представлении об обустройстве мира с многоплоскостной картинкой, а через функционирование идеи в институте философии. И напомню некоторые ключевые моменты, которые мне будут важны.
Итак, первый момент – возникновение идеи: когда некоторое сообщение, суждение в коммуникации, в которой разные участники используют один и тот же термин в качестве субъекта и предиката своих суждений (один в качестве субъекта, а другой в качестве предиката) и фиксируется несовпадение объёма, содержания этого термина в этих двух разных использованиях (рис.1.1).
Рис.1.1.
Следующий момент – идея, которая возникает при фиксации этих несовпадений, является неким ответом на эти несовпадения. При этом, сама по себе возникающая идея этого ответа не наполнена ещё каким-то содержанием, а просто есть предложение, оферта по разрешению проблемы или вопроса о несовпадении (рис. 1.2).
И дальше эта штука, возникающая как идея при фиксации несовпадения, попадает на вход некого чёрного ящика, некоторой структуры, в которой она каким-то образом движется, разворачивается и с ней что-то происходит. И затем из этого черного ящика существуют разные возможности, разные выходы (рис. 1.3).
Рис 1.3.
Фактически в качестве этого чёрного ящика я предлагаю рассматривать институт философии, о котором я говорил достаточно долго, в течение двух лекций, и описывал процессы, которые в нём происходят, позиционную схему этого института и то, что там осуществляется. Сейчас, в этом четвёртом пункте, я буду говорить об этом процессе, в который попадает идея и институт философии и там с ней что-то происходит. Для этого необходимо ещё раз вернуться к началу и воспроизвести фиксацию несовпадения объёма содержания, смысла в одном и том же термине при его использовании в качестве логического субъекта одного суждения и предиката другого суждения. И когда такая фиксация происходит, она является своего рода вопросом, вызовом, требованием каким-то образом разрешить возникшее несовпадение, ликвидировать, закрыть этот разрыв в объёме логического субъекта и предиката или в их содержании – и появившийся ответ в определённом смысле можно считать идеей.
Соответственно, дальше по отношению к этой идее может возникать целый ряд вопросов, но главное, что возникшая на таком этапе разговора идея становится отправной точкой для дальнейшего разговора и рассуждения. В принципе, такая ситуация банальна и достаточно очевидна. Когда разговор, рассуждение по поводу возникшей идеи продолжается, то возникает резонный вопрос: а что этот разговор и это рассуждение делает философским разговором, философским рассуждением? Потому что, зафиксировав достаточно обычную ситуацию несовпадения логического объёма и содержания, мы можем продолжать разговор по-разному, но не каждый разговор, не каждое рассуждение будет становиться философским. Поэтому то, что делает разговор или рассуждение философским – это отнесение возникающих в коммуникации идей к тому, что я называл «идеальным планом» в первых лекциях (рис. 1.4).
Рис 1.4.
Эта штука, связанная с отнесением возникшей и послужившей толчком, отправной точкой для продолжения разговора идеи, отнесение идеи к идеальному плану – вещь совершенно нетривиальная. Потому что в принципе её можно отнести к любому из пространств, о котором я говорил в прошлый раз. Можно, например, отнести вопрос, возникающий при фиксации несовпадении логического объёма и содержания к феноменальности, можно отнести к эмпирике, можно отнести к субъективному знанию, к тому объёму субъективного знания, которым владеют участники разговора. И тогда никакого философского разговора, философского рассуждения не получается. Именно отнесение к идеальному плану запускает философский разговор.
Что означает отнесение к идеальному плану? В данном случае – в конкретных случаях, которые мы можем рассматривать – отнесение к идеальному плану предполагает выполнение ряда условий в рассуждении. Из некоторого ответа, который возникает при фиксации рассогласования логического объёма и содержания… То есть мы можем по-разному относиться к ответу на вопросы, который возникает при фиксации этого самого разрыва. Независимо от того, в какой форме эта идея может быть сформулирована (в развернутой форме или просто высказан новый термин, новое слово какое-то возникло), она подвергается какому-то отношению к ней. И это отношение при отнесении к идеальному плану предполагает наделение – тут я путаюсь в словах, терминологии, потому что приходится по ходу все изобретать… Ну, скажем – чтобы взять какую-то конкретную идею – помните в разных моментах, связанных с примерами, иллюстрациями в лекциях, я уже апеллировал к идее «демократии» и «философии», к идее «города», к разным другим идеям. В этом смысле любую из этих идей можно взять в этом качестве: когда возникает рассогласование в объёме и содержании неких представлений о политической организации, скажем, в Афинах и ответом на это рассогласование выставляется идея «демократии», например, то разного рода вопросы по отношению к этой самой демократии задают дальнейший характер разговора, и не во всяком разговоре, в разговоре не любого характера ответ в виде демократии может стать идеей. Необходимо произвести некоторую процедуру идеализации с этим ответом. Прежде чем возникшая идея будет отнесена к идеальному плану и помещена в нём, с ней необходимо производить процедуру идеализации, или идеации.
Т.е. возникший ответ не автоматически становится идей, а через отнесение к идеальному плану, и тогда он помещается в идеальный план и становится материалом, предметом для совместной работы, кооперативной работы участников этого разговора или рассуждения. Почему не каждый ответ, не каждый вброс в разговор некого ответа на рассогласование становится идеей? – Потому что некоторые ответы могут не предполагать кооперативной работы, взаимного действия, направленного на этот объект, т.е. как минимум необходимо произвести отчуждение данного ответа или полученного ответа от субъекта, и, скажем так, деперсонализировать этот ответ.
И здесь уместно вспомнить разницу между идеей, понятием, концептом и мнением. Если мы фиксируем этот ответ в форме мнения, то тогда никакого философского разговора не состоится, и дальнейшее рассуждение не будет носить философского характера. Как только мы удовлетворяемся в качестве ответа на зафиксированный разрыв тем, что «я думаю вот так, а кто-то может думать по-другому» – мы тем самым сворачиваем философский разговор, или даже сворачиваем его как не начавшийся. Тем самым первая процедура, которую мы проделываем с такого рода ответом, возникшим в разговоре, рассуждении, – это процедура деперсонализации или отчуждения протоидеи от того, кто её высказал. Она должна приобрести общее для участников разговора значение. Это непростая процедура – деперсонализация или обобществление идеи, и далеко не в любом разговоре, далеко не при любой дисциплине разговора и рассуждения это происходит.
Вторая штука: помимо того, что мы должны провести отчуждение идеи от конкретного человека, высказавшего её, сделать её более общей для участников разговора, мы должны придать этой протоидее ещё более общий характер. Мы должны абсолютизировать протоидею, придать ей не только конвенциональный характер (для того чтобы она стала общей для участников разговора), но придать ей некий культурный всеобщий смысл, вынести её за пределы интерсубъективного пространства, которое возникает в разговоре. То есть мало сказать, что то, что высказано, не является просто мнением, а носит некий интерсубъективный характер – необходимо вывести её (протоидею) из конкретной окказиональной ситуации участников разговора и предать ещё более общий характер. Это придание еще более общего характера можно и считать идеализацией – тогда мы помещаем возникший ответ на разрыв и рассогласование в пространство культуры или в придуманный Платоном мир идей, какой-то идеальный план или в идеальное пространство, которое у нас в предыдущих лекциях называлось «пространство идеального». Не только в идеальный план, как рабочее пространство, но и в «пространство идеального» как культурное пространство, в котором помещенные туда представления обретают некий всеобщий, универсальный, абсолютный смысл.
Платоновский мир идей был инструментом европейского мышления, европейской философии, в котором частные мнения (частные по своему происхождению, потому что они возникали в разговорах определённых персонажей, частных лиц или в частных, локальных ситуациях) начинали приобретать всеобщий характер и некоторое абсолютное значение. Другое дело, что в отличие от Платона, мы как современные люди должны понимать, что никакого такого онтологического мира идей, в котором они хранились бы в неизменном виде так, как они хранились у Платона, наверное, нет. Дело не в этом, есть он или нет, а дело в самой процедуре абсолютизации, универсализации этого самого отчуждения, вынесения из любых локальных ситуаций. Соответственно, в идеальном плане, куда помещаются идеи, к которому они относятся, происходит некоторое освоение идеального плана, т.е. мы начинаем фиксировать атрибутику, состояние, свойства самого идеального плана и того, что помещается в него. Например, произведя универсализацию и абсолютизацию появившейся в разговоре протоидеи, поместив её в идеальный план, мы ещё и определенным образом что-то понимаем или что-то фиксируем про идеальный план. Ну, например, про то, что помещённые туда вещи оказываются вне времени и вне процессов изменения, т.е. они не портятся. Если мы помещаем туда нечто, что, будучи отнесённым к идеальному плану, становится идеей, то мы должны понимать, что по отношению к этой вещи можно ставить вопросы об истине. Если бы это было неким локальным мнением частного человека или мнением, которое употребляется во временных, пространственных, организационных рамках конкретного разговора – то спрашивать об истинности этого смысла нет. И только когда мы помещаем протоидею в идеальный план, идеализируем ее, т.е. делаем окончательно идеей – только по отношению к такой идее мы можем задаваться вопросами об истинности. Например, а так ли это? Потому что если мы спрашиваем о том, правильно или неправильно рассуждает, мыслит определенный человек, употребляет какое-то знание и т.д., то вопрос об истинности как таковой в данном случае не стоит. Я так думаю, или я свидетельствую об этом, но когда нет свидетеля, то нет и предмета для дальнейшего рассуждения. Всякий раз это можно локализовать с точностью до того конкретного пространства, которое мы обсуждали в прошлый раз.
Только после того как с ответом на зафиксированный разрыва в логическом объёме и содержании производится ряд процедур (деперсонализация, абсолютизация) и через это происходит освоение неких характеристик и свойств идеального плана – только после этого может начинаться философский разговор. Я, наверное, несколько путано сейчас это рассказал, но, тем не менее, я хотел бы рассчитывать на понимание.
Я зафиксировал пока только самое общее требование к тому, чтобы разговор был философским, рассуждение было философским. Уже на этом моменте должны возникать всякого рода вопросы. Например, в первых лекциях я говорил об идеальном плане, как о чём-то очень сложном, очень замороченном, что было доступно нескольким людям в античной Греции и потом являлось сокровищем, достоянием института философии. А из того, что я пока рассказал, следует, что на такой философский разговор при таких процедурах могут выходить очень многие люди – практически все европейцы так или иначе по много раз в жизни выходят на такой философский разговор. Я бы сказал – да. Такого рода процедура идеализации или идеации является специфическим свойством, специфической особенностью европейской культуры и поэтому такое участие в философском разговоре доступно любому мало-мальски образованному европейскому человеку. Если в то время, которое я называл в первых лекциях осевым временем, временем до возникновения философии, такого рода философствование или разговор с сомнением было доступно достаточно большому количеству людей, то сейчас, конечно же, далеко не все люди выходят на такого рода разговоры, или, по крайней мере, не стремятся их поддерживать, но само начало философского разговора – явление для европейской культуры достаточно распространённое и достаточно частое.
По этому поводу мне бы хотелось привести несколько иллюстраций. Дело в том, что в большинстве случаев люди не отдают себе отчета, когда начинают в разговоре использовать и сам по себе идеальный план, и идеи, которые в идеальный план помещаются. Я, по-моему, и в ЖЖ часто писал о своих препирательствах, столкновениях с Леонидом Злотниковым. Есть такой экономист беларусский – либеральный, достаточно популярный, много писавший в свое в время в «Беларусском рынке», ещё где-то, у нас вон и книжка его на полке стоит. Этот человек хорошо говорит на экономические темы и достаточно часто приглашается как аналитик для разбора ситуаций, которые возникают в стране. Я вспоминаю о нем потому, что именно в разговоре с ним очень часто возникает слово «философия». Философия в устах Леонида Злотникова – очень грязное ругательство, т.е. как только разговор заходит о чём-то за пределами конкретных экономических категорий, Злотников называет это философией, начинает на всех посматривать с иронией, в ожидании, что все должны присоединиться к издевательству. Типа, «нельзя же в самом деле всерьез говорить о том, что мы называем философией». При этом, когда он вынужден не только обозвать и обругать происходящий разговор философией (что далеко не всегда бывает справедливым, иногда он называет философией то, что просто не понимает), но когда он понимает и пытается возразить, то сам апеллирует к абсолютным универсалиям и не подвергаемым сомнению идеям, т.е. он фактически останавливает философский разговор философскими же средствами.
Как только человек начинает употреблять в качестве аргументов в разговоре универсалии – вне пространства времени и ситуации, вне обстоятельства места, времени и образа действия – он так или иначе выходит на коротенький, пусть мгновенный, но тем не менее философский разговор. Он употребляет философские высказывания, и европейская культура переполнена такого рода микрофилософскими разговорами. Мы по несколько раз в день, споря с кем-то, вступая в конфликты, занимаясь воспитанием друг друга или детей, так или иначе апеллируем к универсальным идеям – другой разговор, как мы это делаем. Поэтому начало философского разговора является достаточно распространённой практикой, но удержание философского разговора – совсем другое дело. У того же Грицанова, которого мне приходилось уже упоминать в этих лекциях, было, а, может, и сейчас есть, такое выражение: «Этот человек хороший, потому что с ним можно минут пять вести содержательную беседу». В этом смысле «минут пять» для Грицанова – достаточно большое время, и это правильно. Т.е. выйти, коснуться философского разговора способен любой образованный европеец, но удержаться в философском разговоре хотя бы непродолжительный период – уже требует определённой подготовки, дисциплины и, если хотите, искусства.
Дальше, когда мы зафиксировали такую простую форму начала философского разговора, начала философствования, речь можно вести о том, а какие бывают формы дальнейшего философствования и какие способы философствования мы знаем, можем практиковать и которым можно учиться. Это многообразие форм философствования можно рассматривать со стороны качества или искусства философствования – это отдельный разговор. Я сегодня эту сторону философствования пока оставляю в стороне, пока не буду, наверное, её затрагивать. Можно затрагивать это иначе, не с точки зрения качества и искусства, а, скажем, типологически – по содержанию этих форм философствования. Всё многообразие типов, многообразие содержания форм философствования я бы расположил между двумя полюсами, между двумя крайними типами. Я их в тезисах называл и поэтому пятым моментом я зафиксирую растяжку между двумя крайними типами философствования – тавтологией и диалектикой (рис. 1.5).
Рис 1.5.
Зафиксировав их, я дальше буду говорить о тавтологии и диалектике и разного рода формах, которые лежат между этими двумя крайними типами, а, возвращаясь к третьему пункту своего сегодняшнего рисования, я бы сказал, что институт философии – если рассматривать его как чёрный ящик, т.е. как некоторую структуру, которая имеет внутреннее устройство, о котором я пытался говорить на протяжении двух лекций (это, по-моему, была третья и четвертая лекции), но сейчас меня внутренняя структура мало интересует, а сейчас я говорю о следующем: что на вход этого института подаётся некоторая идея, она начинает циркулировать, происходят изменения, процессы в институте философии и выхода для этих вещей из чёрного ящика или из этого института собственно два. Они могут быть зафиксированы крайними типами философствования – тавтологией и диалектикой. Точнее это не то, что выходит, это обозначения самих выходов, которые предопределяют путь или траекторию того, как движется идея внутри философии или внутри института философии. А на выходе получается либо идеология – если идея проходит внутри института философии траекторию, которую мы обозначаем типом «тавтология», то на выходе получается некоторая сформировавшаяся идеология; если эта штука развивается по-другому типу – по типу диалектики – то там продуктов может быть несколько. Одним из главных продуктов является проблема или, если не брать в таких ставших формах, то сама философия (рис. 1.6).
Рис 1.6.
Философия как конкретная философия, например, феноменология или СМД-методология, или что-то ещё такого рода. Таким образом, я изложил рамки, контекст обсуждения этих двух форм философствования: тавтологии и диалектики. В этом месте есть вопросы, возражения, реплики или замечания?
А.М. – У меня есть вопрос. Лукман и Бергер в своей классической книжке «Социальное конструирования реальности» рассматривают теорию как конечную область значений, т.е. примерно то, что Вы называли тавтологией. То есть это какая-то замкнутая теория, в которой есть ограниченное число понятий, в которых объясняется всё на свете, и есть между этими понятиями дедуктивная связь. Ну, неважно, какой-то устойчивый порядок.
В.М. – Ну, предположим, я всё равно этого всего не знаю.
А.М. – Если мы будем сравнивать теории Поппера (фальсификация Поппера), которая скорее напоминает Вашу диалектику, то у меня возникает такой вопрос. А функционально нафига вообще нужно различение? Я могу допустить, что мне будет проще взаимодействовать с окружающей реальностью, когда я её уложил в ограниченное количество понятий. И, соответственно, сложнее будет, когда у меня там какие-то диалектические связи, т.е. функционально для чего предназначены… В чем можно видеть разницу между этими двумя типами полаганий работы с понятиями?
В.М. – Не с понятиями, а с идеями.
А.М. – Ну, с идеями.
В.М. – Я рассматриваю институт философии, философствование и саму философию. Если мы берём социономное существование философии в виде института, то так или иначе между этим институтом и другими социальными, общественными институтами существуют определенные взаимоотношения: обменные, конкурентные и т.д. В этом смысле институт философии зачем-то нужен. Я уже несколько раз это обсуждал. Во-первых, давай восстановим: зачем я это всё делаю? Для того, чтобы выстроить место в социуме для таких уродов, как я. Я в этом смысле хожу и спрашиваю постоянно у беларусов: «А зачем вам философия?» Не для того, чтобы поинтересоваться этими людьми – а зачем им, я хочу разбудить рефлексию, чтобы они ответили на вопрос, зачем им такие, как я. Тем самым я просто обустраиваю место своего существования. В данном случае, когда я говорю об институте философии, я переношу на это свою прагматику. Я говорю, что институт философии вступает в отношения с другими социальными институтами. И тогда эти два крайних типа могут быть рассмотрены и таким образом, что то, что есть тавтология и идеология – это то, что институт философии отдает другим, поставляет другим. А диалектики и проблематизация, и собственно философия – это то, что он оставляет себе, или то, что необходимо ему для поддержания самого себя в состоянии функционирования и т.д. Не философствуя, институт философии представить себе нельзя, но когда мы разбираем тип, способ и форму философствования, мы должны каким-то образом определяться с этой формой, типом и способом. Мы можем определяться либо для других – выполнять социально необходимую роль и функцию, поставлять другим институтам или социуму то, в чем он может испытывать некоторую нужду. В то же время мы понимаем, что это мы делаем себе, а это на продажу.
А.М. – Меня абсолютно не устраивает Ваш ответ, и я объясню почему. По двум основаниям. Во-первых, для меня эти различия – «диалектика» и «тавтология» – должны быть привязаны к кооперации. И тут я слышу Ваш ответ, что социальные институты жрут постоянно то, что даёт им в качестве экскрементов философия, а сама философия занимается интересными вещами – проблематизацией. Ну, такая вот кооперация, я её отмечаю. Тогда надо доводить до конца. Мы тогда говорим, что философия становится «органом» для развития общества. Т.е. не проблематизация ради проблематизации, а проблематизация ради чего-то там. Ну, например, миру не соответствует то ограниченное количество понятий, которое у нас в тавтологических суждениях находится. Тогда для нас может быть два варианта: мы хотим усовершенствовать эту систему понятий, употребление системы понятий, и тогда мы говорим о каком-то объемлющем контексте, рамке, либо мы занимаемся познанием истин, т.е. хотим соотнести между собой систему понятий и мир. Я про это спрашиваю. Является ли целью для философии сама по себе проблематизация, либо целью является всё-таки что-то, чего добивается проблематизация?
В.М. – Тут вот какая штука. Я полагаю, что цели есть у людей, у индивидуальностей. Тогда как в институтах, если можно говорить о целях, то в превращенных формах. Например, о назначении, о миссии, или ещё о каких-то таких вещах. Поэтому, человеческие цели – они могут быть разные. В данном же случае я говорю о выходе чего-то из этих процессов философствования, появления каких-то продуктов и т.д., разводя следующие вещи: для себя и для других. Для себя означает – для продолжения функционирования, для дления, если хочешь – для вечности.
Потому что – если ты уже вспомнил Поппера, правда, это немножко по другому поводу – в одном месте Поппер рассуждает про организмическую теорию общества и говорит, что последовательное проведение организмической модели выводит нас на фиксацию замкнутого цикла жизни – например, наций, государств, общества, культуры. Есть цивилизации, которые рождаются, достигают некоторой зрелости, потом умирают и т.д. И вот обсуждая историцизм Платона, он как раз про него и говорит: вот Платон застаёт цивилизованный мир Греции на фазе деструкции, распада, разлома, деградации и т.д., и это целиком ложится в некоторое представление о социальности, которое есть у Платона. Тогда как Поппер говорит, что вообще говоря, даже организмическая модель должна приниматься по отношению к обществу с некоторыми оговорками, при которых мы должны понимать, что конца некоторого общества, нации, цивилизации и культуры мы предполагать, исходя из этой картины, не должны.
И поэтому я говорю следующее: если апокалиптические представления принимать и они справедливы, то конец мира может наступить только извне, тогда как в самом мире механизмов или социальных форм, приводящих их к концу и к смерти, нет. И в этом смысле, я тогда говорю об особости и уникальности европейской цивилизации, и говорю, что европейская цивилизация – достаточно уникальная цивилизация из множества человеческих, планетарных цивилизаций, у которой этого конца нет. И нет его за счёт наличия идеального плана, и за счёт вот этой специфической штуки, которая введена, внедрена в европейскую цивилизацию посредством той возникшей в античности философии. И поэтому работа в форме диалектики, философствование в форме диалектики, результатом которого являются проблемы и продолжающаяся, не заканчивающаяся, философия – есть специфическая характеристика европейской цивилизации. И этим философия отличается, в частности, от целого ряда научных дисциплин, которые в принципе могут быть завершены в соответствии с целым рядом постулатов, аксиом, проблем, которые были положены в этот предмет в начале, когда они исчерпываются – завершается целая наука. Философию тоже пытались строить по этому принципу, но это когда существует некий сбой, когда с диалектического способа рассуждения философия переходит на некоторый метафизический, тавтологический способ, и выдаёт вместо философии, которая должна быть продолжающейся, некую идеологию, замкнутую саму в себе, объясняющую всё через ограниченный набор понятий, конструктов и представлений.
А.М. – Вообще-то меня потряс Ваш ответ, я объясню, почему. Я-то думал, что Вы нам будете рассказывать про организацию института философии как про организацию деятельности, а Вы описывали про это как про социальный институт и говорили исключительно в социологических понятиях. Поэтому я Ваш ответ воспринимаю как социологию философии.
В.М. – В определенном смысле так. Но я же оговорился с самого начала, что целеустремлёнными могут быть люди.
А.М. – Это я понял. А потом начали на организмических схемах работать, что вообще странно, честно говоря.
В.М. – Подожди, я как раз рассказал об организмических схемах, чтобы их отложить.
А.М. – Хорошо. В любом случае, когда Вы апеллируете к обществу и таким вещам, и оттуда выводите какие-то характеристики философии – кстати, характеристики функционирования, что тоже странно – так вот, когда Вы всё это начинаете говорить, до меня только сейчас начинает доходить, что Вы, по большому счёту, с самого начала занимаетесь социологией философии. Я почему про это говорю: для меня на самом деле гораздо интереснее было бы услышать от Вас философию по поводу философии. То есть не брать тупые устаревшие понятия социологии и при помощи их объяснять философию, а брать какие-то самореферентные суждения, и при помощи них работать про философию. Тогда бы я воспринял это как новое что-то.
В.М. – Хорошо, ты напиши это как-нибудь, и расскажешь. Потому что я отвечал на твой вопрос. Ты спрашивал: зачем? И я тебе отвечал – зачем. И отвечал в институциональных формах, действительно, мой ответ имеет характер социологии философии. Или, во всяком случае, каких-то таких вещей. Но, я сделал специально оговорку по этому поводу, и поэтому я, возвращаясь к тематизму всех этих лекций, говорю: два объекта было у меня в этом всём – мышление и индивидуальность. И я не собираюсь переносить характеристики и атрибуты одного на другое, и приписывать мышлению то, что нахожу в индивидуальности, и точно также приписывать индивидуальности то, что нахожу в мышлении. А про институт я иначе, как в социологических, в социальных формах говорить не могу и не умею. Институт – он и в Африке институт, не говоря уже про Европу.
А.К. – У меня два вопроса. Один от незнания – Вы говорили про разницу между логическим объёмом и содержанием, поясните, пожалуйста. Второй вопрос, Вы говорили, что процедура абсолютизации снимает статус онтологического существования мира…
В.М. – Нет, я не говорил такого.
А.К. – Сейчас я поясню. Говорилось, что абсолютизация является процедурой в институте философии, и Вы говорили, что (… неразборчиво) получаются как бы вне времени.
В.М. – Да, только я не говорил, что института философии. Я говорил, что есть такая процедура, которую мы можем осуществлять, скажем, с прото-идеями, или с некими ответами, возникающими на фиксации того разрыва, о котором твой первый вопрос был. И именно эта штука позволяет нам относить получаемые в разговоре ответы такого рода к идеальному плану. Потому что, этого можно не делать. Скажем так, онтологическая, или феноменологическая культура – христианская, восточная, ещё какая-нибудь, скажем так, наивно-реалистическая – она все возникающие ответы, которые европейцы идеализируют, относит к чему-то конкретному: на уровне эмпирики, феноменальности или хотя бы онтологии. Например, некой религиозной онтологии.
Т.В. – Я так понимаю, что вопрос был – как я поняла, про что Андрей говорит: что те процедуры, которые делаются – в рассуждении там, позволяют относить что-то в идеальный план, но не позволяют это онтологизировать в платоновском идеальном мире.
В.М. – Нет, он спрашивал про мир идей, что он не онтологизируется как у Платона. Что эта процедура абсолютизации якобы не допускает онтологизации. Я такого не говорил, кстати. И поэтому – она допускает, просто Платон онтологизировал идеальный план, вынес его из деятельности, и поместил его в некоторым образом устроенный мир.
А.К. – А вопрос состоял в том, что такое характеристика вневременности, в чём смысл этого?
В.М. – Она включена в более высокого порядка процедуру, или в более общую процедуру отнесения к идеальному плану возникшего в локальной ситуации ответа на локальную заморочку, связанную с этим разрывом. И тогда: мы даём некий ответ, после чего этот ответ идеализируется. Чтобы он стал отправным пунктом философского разговора, с ним нужно провести эту процедуру – идеализации или идеации. Причём абсолютизация является последним этапом этой процедуры. И через эту процедуру мы помещаем ответ, получившийся в разговоре, в идеальный план и начинаем с ним работать, философствовать по его поводу.
Т.В. – Вот непонятно тогда, чем идеальный план отличается от этого самого пространства идеального, если и там, и там одинаково процедурно всё – идеализация, абсолютизация ведь и там, и там? В чём тогда разница, каким образом найти отличие? Туда мы не помещаем, а помещаем туда: они что там, как по ящичкам разложены?
В.М. – Вот, смотри: помещаем туда, помещаем сюда. Ведь у Платона поместить что-то в его, платоновский, мир идей невозможно. Это один из пунктов критики Аристотелем.
С.М. – Это там дано, изначально?
Реплика: У Платона всё возникшее уже существует.
Т.В. – Понятно, но вот возникшее противоречие и ответ на это противоречие – Вы же сами говорите – относится. Он может быть отнесён к миру идей, найдена соответствующая существующая там эта самая абсолютная идея.
В.М. – Да. Но ты понимаешь разницу…
Т.В. – Процедурно чем отличается?
В.М. – Вот процедурно и отличается. Вот, смотри…
Т.В. – Ведь отнесение ответа на этот разрыв, отнесение к идеальному платоновскому миру, будет проходить точно по таким же процедурам – идеализации и абсолютизации.
В.М. – Нет.
Т.В. – Почему нет?
В.М. – Потому что там абсолюты и универсалии являются не результатом абсолютизации и универсализации, а заданы как таковые. То есть в каком-то моменте дальнейшего философствования, когда мы про эту разницу можем забыть – там, на дальнейших этапах могут совпадать способы рассуждения. Но не в начале этого. Вот обрати внимание, опять же, если вернуться к попперовской критике Платона, и противопоставлению Поппером Платона и Сократа. И это противопоставление во многом связано со способом философского разговора, ведения разговора и диалога Платоном и Сократом. Платон был сноб и аристократ, и в этом смысле он пренебрежительно относился к разного рода профанным заявлениям. Никогда Сократ такого себе не позволял, даже в изображении Платона. И в этом смысле – мне зачем это всё нужно – я ещё раз говорю: два любых чайника, на улице, на базаре, за кружкой пива, могут выйти на начало философского разговора. Они даже это делают – произвольно или непроизвольно, так или иначе, они апеллируют к разного рода абсолютным вещам. Но другое дело: если они это делают непроизвольно, то есть они сразу апеллируют к неким абсолютам, и по отношению к абсолютам невозможно построить критику.
Т.В. – А к абсолютизированным вещам – возможно?
В.М. – Конечно. По крайней мере, по отношению к процедуре абсолютизации можно задать вопрос. К самой по себе идеализированной универсалии – нет. Но природа её такова, что либо она изначально абсолютна и дана как абсолютная, либо она нами абсолютизирована. Ну, как абсолютизирована, так может быть и деабсолютизирована.
А.К. – Значит, получается, что характеристика вневременности – она является основанием для удержания явлений?
В.М. – Да, конечно. И она делает возможными дополнительные философские вопросы. Например, вопрос про истину. А действительно ли в треугольнике 180 градусов? И это требует доказательства, разбора, и т.д. А если мы говорим: мы померили транспортиром, и получили 180 градусов – ну и отлично: у этого треугольника 180 градусов. И всё. И только тогда, когда мы говорим: треугольник всегда и всюду… ну и т.д.
Что, Дима?
Д.Г. – Вот Вы просто говорите про идеализацию, абсолютизацию как способ полагания…
В.М. – Ещё раз: я говорю про процедуру отнесения полученного в частной беседе ответа на разрыв в логическом объёме и содержании к идеальному плану с тем, чтобы по поводу этого могло начинаться философствование.
Знаешь, когда я учился в университете, меня очень раздражала философия, которую нам преподавали. Я её очень не любил. Потом, когда я отвечал себе на это раздражение, и стал ею заниматься, интересоваться, и я её полюбил, но странною любовью. Я вдруг обнаружил, что марксистская философия, в отличие от того, что она про себя заявляет, в истории функционирует совсем иначе. То есть она всякий раз постулирует какую-то определённую истину и утверждает, что поскольку эта истина получена самым правильным методом, она такова и иной быть не может, закрывая дальнейшее разворачивание этого всего. Я смотрю в историю, и говорю: ага, пятьдесят лет назад они считали истиной нечто совершенно иное, каким же образом получилось, что, столкнувшись с другими ответами, они не проблематизировали ни метод, ни саму философию, а включили некое новое знание в себя, и дальше остались с тем же методом, с той же философией, и всё нормально? И я представлял себе марксистко-ленинскую философию, диамат, как некоторую такую резиновую штуку, которую можно натянуть на что угодно, что до этого в неё не попадало. Вот они генетику раздолбали как продажную девку империализма – или эта кибернетика была такой? – ну, в общем, сначала они с генетикой таким образом поступали, показывая, насколько она недиалектична, нематериалистична, не марксистская, и т.д. Проходит тридцать лет, и сначала они её начинают в школах преподавать, потом институты открывать, и потом начинается марксистско-ленинское философствование по поводу генетики. То же самое было с кибернетикой, и т.д. И в этом смысле такая резиновая фигня, а дальше я говорю: вот интересно, а почему так получается? И начинаю смотреть, как философствуют другие, ещё не занимаясь философией как своим делом. Я открываю какую-то статейку Ортеги-и-Гассета, которая считается философской – по крайней мере, издана в разряде философских текстов. И статейка начинается примерно таким образом – до сих пор помню, что меня это поразило – «еду я как-то в трамвае в Мадриде…». И в трамвае возникает какая-то заморочка, возле которой Ортега-и-Гассет наворачивает целое рассуждение. И я говорю: вот как интересно, может ли позволить себе академик марксистско-ленинской философии не то, что поездку в трамвае, а такое начало философского текста? Оказывается, нет. И тогда я говорю себе: ага, наверное, философия может начинаться с любого толчка, если она философия. С любого места.
А дальше: вот про это я тебе рассказал, а теперь я тебе напомню про практику игр. Помнишь одну из форм критики игр, когда кто-то из методологов заявляет, что вот раньше была методология, мы собирались на семинаре и разбирали, как мыслит Кант, Маркс, Гегель и т.д. – мы занимались высоким, чистым, светлым. А теперь чем занимаются методологи? – Ездят на игры и анализируют, как дядя Вася пукнул. При всём при том: что мы что на играх делаем? Мы создаём очень жёсткую ситуацию ответственности – читай Бобровича – ответственности за сказанные слова, фиксируем разницу в том, что говорит один и говорит другой, из этой зафиксированной разницы раздуваем проблему, и строим вообще охренительную проблематизацию. И, собственно, философии, которые рождаются на играх – они могут чего-то оставлять в идеальном плане, но, как минимум, они создают идеальный план и целый ряд объектов на нём, точек, по отношению к которым разворачивается мыслительная работа на игре. Поэтому я говорю: вот это – философия. А не писание умных книжек, почему генетика является марксистко-ленинской наукой.
Значит, мы с тобой закрываем пока, и возвращаемся к вопросу Комаровского по поводу логического объёма и содержания. А про что вопрос, собственно?
А.К. – Очень просто: это как?
Т.В. – Что это такое.
В.М. – Это вообще замена, краткая замена всего того, что я говорил про происхождение идей в позапрошлой лекции.
А.К. – Я понимаю, но я просто этого «не проходил». Логический объём – это про что, и логическое содержание – это куда?
В.М. – Логический объём возникает у меня в данном случае для того, чтобы показать, насколько бессодержательны сами по себе идеи. Почему я поправил Мирошниченко, когда он попытался назвать то, с чем я сейчас работаю, понятиями? У понятия – в нормальной формальной логике – есть объём и содержание. Вот как это иллюстрируется у Челпанова – «собака – это четвероногий хищник, с хвостом» и т.д. Это – содержание понятия «собака». Ну, и всё, что мы можем сказать про собак: они бывают маленькие, большие, нарисованные тончайшей кистью из верблюжьего волоса и т.д. А объём понятия – это все собаки. Соответственно, когда возникает идея в ответ на какое-то рассогласование – ну, вот как я пытался реконструировать (даже не псевдогенетически, а ёрнически и иронически) проблематику демократии в Древних Афинах, сталкивая в «Вызывающем молчании» Аристотеля, Аристофана, Перикла и т.д. И возникает это в ответ на какие-то конкретные заморочки внутриполитические, а вот надо демократию делать. И, соответственно, когда война со Спартой происходит, Пелопонесская, Перикл выдвигает эту идею, которая организует соответствующие массы на патриотические действия. Спрашивается: можем ли мы демократию на тот момент, когда она обсуждалась древнегреческими философами, обсуждать с точки зрения аристотелевской аналитики с объёмом понятия, содержанием понятия и т.д.? Точно так же, как борьбу классов у Маркса или пресловутое попперовское открытое общество. Содержание у всех этих вещей в момент возникновения идеи есть, а объёма-то нет. Это если мы начинаем обсуждать…
Т.В. – У идей и содержания нет.
В.М. – Это если мы обсуждаем… в зависимости от того, в какое место суждения мы ставим этот термин, а потом и идею, которая возникает как ответ на это рассогласование – в позицию предиката или в позицию субъекта. Потому что чем отличаются субъект и предикат в этом смысле? Субъект – это то, о чём сказывается, тогда как предикат – это то, что сказывается про что-либо. И в этом смысле возникает игра с объёмом и содержанием понятия, которая потом в логике проходится как дерево Порфирия, с родо-видовыми отношениями и этой иерархией объёмов и содержаний, при котором говорится, что понятия с максимальным содержанием имеют минимальный объём, стремящийся к единице. Тогда как понятия с максимальным объёмом фактически лишены какого бы то ни было содержания. Когда мы работаем с идеями – идеи возникают на разрыве употребления термина в одном суждении в качестве субъекта, а в другом в качестве предиката – когда мы ловим, что они не совпадают между собой, или противоречат друг другу, мы фиксируем только разрыв. Если мы начнём сводить этот разрыв только к несовпадению содержания – например, «у собаки не обязательно четыре ноги» и начинаем оспаривать содержание понятия «собака». Потому что по телевизору видели «американскую звезду» – собака родилась с атрофированными передними лапами, ходит на задних лапах и внушает оптимизм всем инвалидам. И начинаем на этом основании опровергать содержание понятия. Или наоборот, начинаем с объёмом заниматься. Мы тем самым попадаем в разряд даже не тавтологии, а я не знаю, долдонства какого-то. В этом смысле, это ещё в школе проходят – с помощью логики мыслить нельзя. С помощью логики – формальной логики – мы закрываем всякое мышление и даже рассуждение. Вот вычислять что-то можно, задачки решать логические можно, Берков вас наверное этому учит. Я ответил или нет? Больше нет вопросов?
Т.В. – Есть. Получается, что идея содержательно выносится в этот самый идеальный план и там с ней работается, ну, в частности, осуществляется критика истинности. А к чему относится критика? К методу? Ну, то есть если в идеальном плане работается только с идеями, то с чем собственно там работается, если там нет содержания? Как возможна критика? Критика метода тогда? Или чего?
В.М. – Ну, критика возможна много чего. Если мы задаём вопрос про истину – тогда это фактически онтологическая критика и критика метода по большому счёту. Если мы задаём вопрос про процедуры – идеации, абсолютизации – то это другое.
С.М. – А критика метода по большому счёту – это как?
В.М. – Это значит – метода мышления как такового. Включая критику самого идеального плана и т.д.
Т.В. – Вот смотрите, Вы говорите, что, вынося в идеальный план идеи с помощью таких процедур, как идеализация и абсолютизация, они приобретают такой вид, что к ним возможна критика с вопросом об их истинности. Истинности идей, правильно? А тогда…
В.М. – Подожди-подожди-подожди. Значит, смотри: по поводу истинности – чего? Того, что становится содержанием некой идеи, которым она обрастает…
Т.В. – Содержания чего? Идеи? Поэтому я и спрашиваю: как может быть критика содержания бессодержательной идеи?
В.М. – Очень просто. Вот представляешь себе экран? Видела экран – например, в телевизоре? Как появляется изображение на экране? Вот Лёня знает.
Т.В. – Это я тоже знаю. Бегает точечка.
В.М. – Вот она начинает бегать. И фактически развёртка… вот она обегает несколько раз, и через это бегание возникает изображение. Примерно та же самая ситуация – я несколько раз уже эту метафору солнечного зайчика проговаривал. Проецируется на некоторое пространство идея как попытка ответа на… и дальше с ней, с этой идеей, с этим ответом начинают что-то делать. Его начинают двигать и перемещать с места на место. И вот эта траектория перемещения захватывает содержание. И идея начинает обрастать содержанием, и тогда про идею уже что-то можно сказать. Первоначально идея возникает как ответ на разрыв, и у неё фактически минимальный объём и минимальное содержание. И только в философском разговоре – пробуя эту идею на вкус, двигая её каким-то образом – за неё что-то цепляется и появляется это самое содержание. Примерно так же, как с солнечным зайчиком, который проецируется не на экран, а просто в воздухе: если бы не было столбов пыли, мы бы никогда не видели столбов света, солнечных зайчиков и т.д. Мы начинаем это видеть только за счёт того грязного воздуха, в котором это всё вьётся. Также и с идеями: идея возникает в философствовании, в разговоре с самого начала. Возвращаясь (к рис. 1.1): в разговоре, фиксируем разрыв, начинаем о ней разговаривать и она обрастает содержанием. Она имеет такое свойство в данном случае: к ней прирастает определённое содержание, и она сама начинает становиться знанием, про неё можно рассказывать детям потом.
Д.Г. – Как так может быть, что и объём минимальный, и содержание минимальное?
В.М. – Ну, давай возьмём идею, с которой мы носимся и которая является фундирующей в том числе и для Агентства гуманитарных технологий и Центра социальных инноваций. И не только для нас, но и для Сороса, для кучи фондов по всему миру и т.д. – идея открытого общества. У открытого общества есть содержание?
Т.В. – Ну, если оно является предметом философского разговора, то обязано обрасти.
В.М. – Дальше. Есть идея Бога, да? И схоласты на этом очень ломались, и на этом целое богословие построено – негативное богословие. В этом смысле, идея Бога тоже имеет минимальный объём и минимальное же содержание. Поэтому вся негативная теология строится на том, что мы говорим: Бог не это, и не это – мы отнимаем содержание. Так вот, чтобы нам с идеей открытого общества иметь дело таким же образом, мы должны выбросить всю ту дурь, которая про это открытое общество сказана – Бергсоном, Поппером, Соросом, я уж не говорю про кучу всего, которая наговорена про это много кем. Дальше, зачем я уже которую лекцию про это всё говорю? Даже платоновские идеи, которые уже много раз перелопачены, много раз про них говорили, или локковские и т.д. – всё равно не заслуживали бы четырёх лекций. Я говорю вам, на самом деле, как мне кажется, достаточно новую вещь (хотя, может быть, Мирошниченко найдёт какие-то аналоги и расскажет, как кто-нибудь написал это раньше меня, лучше, грамотней, правильней и т.д.). Понимаешь, какая вещь: я рассказываю про идею как про специфический философский объект, с которым имеет дело философия, и говорю, что сегодня мы вообще должны будем восстанавливать на жизни идей всё то, что обсуждали на предыдущих лекциях. Я говорил о том, что у философа странные отношения со знанием? На хрена философу знания про открытое общество? – Только для того, чтобы выкинуть их, как только он начинает работать с идеей. Как только он зациклится на знаниях, никакой философии не будет.
Более того, я бы сказал следующее, уже переходя к предмету дальнейшей лекции, иначе я не дойду сегодня до конца – к тавтологии и диалектике. Грубо говоря, их можно обозначить ещё и таким образом: тавтология – это вот такое сканирование или перемещение солнечного зайчика по пространству (на рис. 2 – 1), с тем, чтобы он высвечивал разные места в этом пространстве и у нас нарастало это знание. И вот это продвижение, проговаривание идеи по много раз, в разных обстоятельствах, и в разных пространствах к тому же (ну, пока остановимся на одном) – это тавтология.
Чем занимается диалектика? Диалектика фактически говорит, что вот эта вся высвеченная на неком пространстве знаниевая катавасия нужна нам только для того, чтобы обнаружить идею. Но чтобы до неё дойти, нужно раскрутить с конца и стереть все эти линии, и восстановить исходное состояние – точку (на рис.2 – 2). Вот тогда мы поймём идею, схватим идею.
Рис 2.
Как правило – как и все идеальные типы – никогда ни одна идея, самая универсальная, самая важная, самая толстая, не может покрыть ни одного из пространств, доступных для нашего мышления и деятельности, и в этом смысле она отличается, конечно, от кинескопического луча с развёрткой, которая точно покрывает весь экран. И никогда мы не можем в своей критике, диалектике, восстановлении дойти до того, чтобы стереть все знания как таковые в качестве лишних и выйти на саму голую чистую идею. Но это как все идеальные типы. А само по себе философствование – оно как бы между этими двумя крайними типами и разворачивается.
Поэтому, тавтология – я уже в тезисах писал, и могу повторить – тавтология это такой способ работы с идеями, который направлен на устранение рассогласования и разрывов в содержании смыслов субъектов и предикатов различных суждений. При тавтологии идея, возникшая как фиксация разрыва или несовпадения, воспринимается как ответ на возможные вопросы, вызванные этой фиксацией. И ответов в тавтологии гораздо больше, чем вопросов, собственно. Поэтому тавтология как бы предпочитает вытаскивать ответы из задних карманов на разные ещё только-только наметившиеся вопросы. И диалектика, которая, наоборот, направлена на усугубление этого разрыва, этой фиксации, на стирание знаний.
Опять же, возвращаясь к теме одной из первых лекций, я говорю тогда, что мало того, что у философии странные отношения со знанием, которое собственно и есть содержание всяких понятий и т.д., но назначение философии – выходить на границы знания. А к границе мы можем доходить только за этой вот путеводной нитью, путеводной звездой, которая связана с идеями, которые возникают на разрыве и т.д.
Ну, собственно, что мне хотелось бы ещё напомнить и восстановить, так это то, что ни в коем случае нельзя рассматривать тавтологию и диалектику как одно – хорошее и достойное, и другое – плохое и недостойное. Здесь я должен буду сделать экскурс в нашу деятельность. Ну, конечно, не все присутствующие участвовали и участвуют в нашей деятельности, но тем не менее. Тем, кто участвовал, это будет напоминание, а всем остальным я должен буду рассказать немножко. В течение полутора лет плотно, а до этого слегка касаясь, наша группа – АГТ/ЦСИ – занималась разработкой вопросов гражданского образования в Беларуси. И дальше с этим самым гражданским образованием происходит такая штука: фиксируя возникающие разрывы, мы выходим на некую идею, которая заключается в том, что гражданство и современная идея гражданина и гражданства отличается от того понятия гражданина и гражданства, которая транслируется в учебниках, в книжках, в общем, в определённой практике. Мы начинаем с ней носиться, с этой идеей, и, в общем, мало чего можем про неё сказать, содержание её минимально, объём – ещё меньше, но тем не менее, мы её предлагаем, эту новую идею. А дальше у нас есть разделение труда: у нас есть менеджмент, есть люди, которые стремятся использовать это всё в преподавании, есть люди, которые ждут – якобы – стандартов гражданского образования, ещё чего-то и т.д. И фактически у нас со Светланой возникает такая сладкая парочка, типа Перикла и Анаксагора. Она ко мне пристаёт… Я когда дотумкал до того, что идея гражданина отличается от подданного, более того, идея современного гражданина совсем не похожа на идею гражданина, которая транслировалась во всём двадцатом веке, строю такую четвероякую картинку: квирит – подданный – гражданин национального государства – гражданин объединённой Европы, и довольный собой, жизнью, женой, миром, ухожу отдыхать. А она как практик – Перикл, можно сказать, менеджерирующий – начинает приставать: давай концепцию, давай содержание обучения, ещё чего-то. Я говорю: чего тебе ещё давать, я тебе идею дал, делай с этим что хочешь. Но она берёт меня за жабры и начинает что-то требовать. А мне, понятное дело, лень – с одной стороны, а с другой стороны – у нас какие-то семинары идут по этому поводу, проект вообще идёт, мелькают какие-то люди, типа Влада Величко, Светланы Наумовой – то есть всякие авторитетные люди, которым надо вообще предъявить концепцию гражданского образования или что-то такое про гражданское образование слепить. А у меня ничего кроме голой идеи нет, идеи без объёма, содержания и чего бы то ни было ещё. Чем я начинаю заниматься? – я начинаю заниматься тавтологией. Я начинаю эту идею, просто сформулированную, выстраивать в нескольких предложениях и суждениях – ей этого опять мало. Я тогда начинаю писать большие тексты, по страничке-полторы – ей опять мало. Я тогда начинаю объяснять, как надо поступать с этим всем: есть идея, она фиксируется просто называнием каким-то. Она фиксируется просто как ответ на те заморочки, затруднения и разрывы, которые возникли, после этого я могу вообще определённым образом сформулировать дефиницию под эту идею, понимая при этом, насколько она мне противна. Идея – чистая, светлая, она меня вдохновляет, а дефиниция уже, блин, противная. Но этого мало, я начинаю писать всякого рода концепции, под эти концепции ещё и программы и т.д. А потом я всем рассказываю схему тавтологии: я вот здесь одну схему тавтологии задал, даже не схему, а иллюстрацию, другая схема тавтологии заключалась в следующем: идея превращается в некий концепт, концепт оформляется в некий концептуальный текст, который может называться концепцией, потом эта концепция начинает обрастать: построением теории современного гражданства, потом – программой обучения, набором учебников и т.д.
И поэтому идея проходит путь от точки в идеальном плане, которая введена для того, чтобы ответить на зафиксированный разрыв, потом появляется страница текста, потом появляется некая книжка на этот счет, потом уже стопочка книжек, пока не появляется книжный шкаф…
Д. Г. – В общем, библиотека в кармане.
В.М. – Ну и т.д. Вот в этом смысле – это тавтологической путь прохождения идеи. В результате, когда у нас появляется книжный шкаф или полка с книгами, у нас появляется идеология. Рождается она исключительно из вот этого как бы тавтологического прохождения — рассказывания про одну и ту же идею, но в разных знаниях, типах знания, в разных терминах и т.д. и т.д. Ну, а каков – помимо того, что продуктом этого всего становится идеология – какой еще смысл вот в этом во всем? Я в тезисах этим закончил и ещё раз напомню. Это безотносительно к содержанию той книжки, которую как-то Олег Генисаретский выпустил с названием «Упражнение в сути дела», я беру просто само название — «упражнение в сути дела».
Тавтология позволяет упражняться в сути дела и собственно институт философии функционирует – даже если там не было бы диалектики и т.д. – функционирует в том числе тавтологически. Что делает, скажем, Фихте, сталкиваясь с теми недоразумениями, противоречиями или несостыковками, которые он видел у Канта или ещё кого-нибудь? У него возникает какая-то идея, и он начинает писать, описывать её. Описывает и описывает, заходя несколько раз с разных концов и т.д., объясняя некоторые такие вещи. Чего делаю я, например, когда у меня возникает идея «думать Беларусь»? Ну, высказал я и высказал эту штуку, но потом я начинаю на разные лады это повторять, эту же самую идею – но по отношению к талантам и поклонникам, по отношению к организации средств массовой информации, по отношению к образованию, по отношению к производству тракторов и т.д. В конце концов, по отношению к гражданскому образованию и – как это? – к нациотворению, нациотектонике какой-то и т.д.
Идея фактически одна и та же, повторенная на разные лады, даёт эти самые штуки. Правда, она до сих пор не становится никакой идеологией – она может стать идеологией, если этой тавтологией будут заниматься и другие. Я не могу написать книжный шкаф книжек – не могу, не хочу, не буду и т.д. Даже концепцию – ты помнишь, как я писал ее? – на хрен мне это сдалось. Но институт философии не может функционировать, если в нем идеи не циркулируют таким образом. Тавтология в этом смысле является непременным и обязательным способом функционирования философии.
Было бы конечно лучше, если бы это было не голая тавтология, как это делается в марксизме, потому что марксизм – он ведь напоминает в этом смысле того чувака, который сдавал науку биологию, зная только устройство блохи. Значит, ну вот расскажите про суслика. Ну, суслик, вообще у него есть лапы и он весь оброс шерстью, а в шерсти водятся блохи, так вот устройство блохи такое вот. Преподаватель несколько таких вопросов ему задаёт, в конце концов понимает, на кого он нарвался, и задаёт вопрос: «А рыба?». Тот рассказывает про рыбу: рассказывает, что у рыбы есть чешуя и нет шерсти, а вот если бы была, то соответственно в ней водились бы блохи, итак, устройство блохи следующее…
Так вот и марксистская философия с ее тавтологией. Она фактически осуществляет просто экспансию по пространствам. Сначала исторический материализм, диамат были придуманы для того, чтобы продлить французскую революцию в виде снятой схемы классовой борьбы на ситуацию, в которой оказываются Маркс и Энгельс на момент сороковых годов. Но затем выясняется, что для того, чтобы ее продлить, её нужно каким-то образом протранслировать, нужно концепцию задать. А концепция предполагает высокую степень идеализации, к идеальному плану это всё вынесено, а затем возникшая идея начинает соваться везде и всюду. Ну и после этого захватывает область за областью: сначала они оставались в рамках социальных представлений, ну а потом «Происхождение семьи, частной собственности и государства», т.е., выход уже за пределы собственно экономики и социологии, выход в этнографию, ещё чего-то. Ну а потом всё заканчивается «Диалектикой природы», а поскольку природа является объектом наук, то надо было потом вписать эту возникшую идею диамата и истмата в каждую из наук. И так разрастается вот эта самая штука, но зато строится мощнейший институт философии и благодаря такому мощнейшему институту философии возникает одна из самых мощных идеологий двадцатого века, а может быть и всей истории человечества.
Но параллельно с этим, кроме самой идеологии, многие философы, упражняясь в сути дела, выходили на разного рода другие вещи. В частности сама СМД-методология тоже возникла из этих упражнений в сути дела, отталкиваясь от этой тавтологии. Потому что если вы вспомните историю – как это ГП описывал по отношению к тому, как возникла методология – то фактически они хотели поначалу хотели распространить метод Маркса ещё и на исследование мышления, на логику и т.д. Логика на тот момент оставалась, в общем, за пределами марксизма и она была такой же запрещенной дисциплиной, как и кибернетика, генетика и т.д. И только в сороковых годах, в 1948 году или 1949 логика была легализована, и когда понадобилось написать учебник для средней школы, то выяснилось, что всех собственно логиков под марку распространения марксистско-ленинской идеологии и марксистско-ленинского учения, замочили. И они ничего лучше не нашли, как переиздать дореволюционный учебник логики Челпанова. Ну а, соответственно, чтобы учить детей логике по этому учебнику, нужно было хотя бы учителей подготовить. Под это дело восстанавливается кафедра логики в университете и начинают искать ископаемых логиков, которые ещё дожили до этого времени. Нашли Асмуса, ну и пошло-поехало.
В этом смысле ГП имел ту же самую интенцию: продолжать тавтологию, распространяя метод на ещё одно пространство. Поэтому упражнение в сути дела есть вещь полезная. Если вы, сволочи, не будете этим заниматься, то человеков из вас не получиться. Вот. Но другое дело, что… Чего?
С. М. – Хорошее завершение лекции.
В.М. – Ну я еще про диалектику доброго слова не сказал.
Т. В. – И ей мы тоже должны заниматься?
Д.Г. – В свободное от тавтологии время.
С. М. – Сейчас мы весь институт философии построим с тобой.
В.М. – Нет, ну а чего ты смеёшься? Скажем, вот написали мы этот чемоданчик, книжечку, там и т.д. про гражданское образование. И что это, псу под хвост всё?
С. М. – Ну, так больше проблем возникает на этой стадии, чем…
В.М. – Если некому продолжать эту тавтологическую линию, то мы всё впустую сделали работу. Никому не нужную и т.д. Но точно так же, если мы на этом остановимся и начнём дальше точно так же пропагандировать идеологию, то мы закроем на хрен АГТ-ЦСИ как институт философии, откроем шарашкину контору…
С. М. – Которая будет обслуживать идеологическую машину.
В.М. – Ну и т.д. Поэтому если мы хотим сохраняться вот в этом качестве, для того чтобы вернуться от лекций к методологическому семинару, мы должны запустить процессы критики и диалектики. Должны начать раскручивать назад всё то, что мы сейчас знаем в первую очередь о себе, о методологии, о философии и т.д. выходя к идее, или к набору идей. Таковых идей у нас в общем-то совсем не много: у нас есть идея Беларуси, у нас есть идея культурной политики, у нас есть идея гуманитарных технологий, была и исчерпана идея функциональной грамотности, у нас есть идея (грубо говоря) игры, ну и ещё какие-то протоидеи могут быть, которыми можно заниматься. Ну, например, идея техники, среды, вот этих всех вещей и т.д. Их можно найти, набор каких-то таких вещей есть. Но для того, чтобы всё это функционировало, нужна критика, разоформление, раскрутка, очищение от того нагромождения знаний, которое на всём этом на сегодняшний день навалено. Но нельзя сказать, что в отличие… ну, как я говорил сегодня про тавтологию, тавтология — это не только противная служба по производству идеологии. Это упражнение в сути дела и поэтому это пробы, попытки, подходы работы с идеями. Идея вообще должна скакать, функционировать и двигаться по этим пространствам. Поэтому мы можем упражняться и должны упражняться в сути дела.
Точно так же и с диалектикой – нельзя относить диалектику только к хорошему, достойному виду занятий. По большому счету диалектика имеет несколько негативных выходов. Это то, что называется дурной диалектикой, я не стану углубляться в эти вещи. Это когда она просто становится таким увлечением, забавой нахождения всякого рода объединяющих единств для разных противоречий, то есть такое бесплодное схоластическое увлечение этими вещами. Диалектика имеет своим инобытием просто спор ради спора, или со смещением в сторону коммунальности или социальности, когда спор ради победы. Это одна из таких фигней, которая была на предшествующих семинарах, когда я семинары делал не у себя, скажем, а на Абушенковский ходил, например. Когда там время от времени возникали как бы такие рефлексии после прошедшего семинара: «А здорово я там ему отыграл! А как я вот это самое сказал!» Когда такого рода упражнения достаточно квалифицированных людей становятся уходом от сути дела и содержания, и перемещаются в плоскость коммунального: кто кого переиграл, кто кого задел и т.д.
Ну и еще, наверное, диалектика может становиться наркотиком. То есть беспрерывной проблематизация. Как вы помните, в играх эскалация проблематизации может вести к выпадению человека из сферы рационального и впадения в шизофрению, если коротко и не углубляясь в эту тему. Ну, и уже времечко непрерывного говорения подошло к концу. Итак, я собственно это сказал, это проговорил, про это не забыл. Вопросы, замечания, реплики, суждения.
Т. В. – Диалектика — это способ работы в идеальном плане?
В.М. – Нет. Ну, как бы в идеальном плане… В общем… Я не знаю даже, как это сказать, я не стану этого отрицать. Но я бы сказал так: диалектика и тавтология — это формы философствования. А философствование, как я уже говорил, разворачивается на разговоре и рассуждении. Идеальный план — это место апелляции в разговоре и рассуждении к разворачиванию мышления. И в этом смысле, так или иначе, философствование втягивает в себя работу с идеальным планом, в идеальном плане и тем самым становится фундированным мышлением. Но сама по себе философия — я об этом говорил в первых лекциях – философия не предполагает обязательно мышления, можно философствовать без специальной работы в идеальном плане. Но чтобы философствовать, нужны идеи, а идеями какие-то штуки становятся только тогда, когда мы их относим к идеальному плану. Поэтому…
Т. В. – Но диалектика же относится к идеям, это же работа с идеями?
В.М. – И работа как бы… С идеями, но…
Т. В. – Но не в идеальном плане.
В. М. – В режиме разговора и рассуждения. Разговор и рассуждение могут обходиться без работы в идеальном плане.
С. М. – Без обязательного включения в мышление.
В.М. – Без обязательного включения в мышление. Хорошо бы, и мы к этому стремимся — это наше специальное, индивидуализированное отношение к философии — включать туда работу в идеальном плане.
Т. В. – Значит в идеальном плане – это мышление.
В.М. – Да.
Т. В. – А философствование — это поверх, это шире, вокруг…
В.М. – Да, вокруг. И вообще там…
Т. В. – Подождите, а про мышление и работу в идеальном плане, про способы Вы вообще ещё не говорили.
В.М. – Ещё не говорили, ещё никак подойти не можем. Я даже начинал сегодняшнюю лекцию с того, что я даже близко еще не подошел к тому, о чём хотел говорить.
С. М. – Мышлению, наверное.
В.М. – Да.
С. М. – А тавтология предполагает включение мышления?
В.М. – Может, конечно. Потому что, например…
С. М. – Нет, подожди, я понимаю, что диалектика может не включать, а может включать. И тавтология тоже?
В.М. – То же самое. И тавтология, и диалектика — это формы философствования, идеальные типы, формы философствования такие. Все другие формы – я это по крайней мере так себе представляю – они размещаются между двумя этими крайними. Но это то, что разворачивается в разговоре и рассуждении. Мышление там присутствует минимально, поскольку это философствование – то только за счёт того, что мы относим в разговоре и рассуждении идею к идеальному плану. И там она абсолютизирована и т.д., и там мышление становится возможным принципиально. Но если идея становится закрывающей, замыкающей наше философствование, то мы собственно с мышлением не работаем, потому что мышление предполагает не только вот эту траекторию в каком-то пространстве (на рис. 2 – 1), и не только в идеальном плане, кстати – и в эмпирике, и в технике, и где угодно – но ещё и слежением за тем, а что с самим идеальным планом, за самим идеальным планом? Мышление предполагает непременную рефлексию идеального плана как такового и всех вот этих вещей. А мы можем упереться в идею, и собственно для философствования этого вполне достаточно. Поэтому философия далеко не всегда рефлектирует мышление. Хотя при всём при том, как Хайдеггер говорил, когда мы говорим про мышление, мы имеем в виду в первую очередь философию. И мышление дано нам в виде философствования, исходная, первичная такая форма.
Всё? Вопросы исчерпаны?
К. А. – Про диалектику Вы говорили, что необходимо пройти путь по стиранию наличных знаний и прийти к исходному пункту появления идеи, т.е. первого…
В.М. – Ну в таком метафорически идеальном смысле я согласился бы.
К. А. – Моя подспудная ментальная реакция, что называется, на эту идею двоякого характера. Первое, это то, что проникновение в точку начала позволяет понять возможные ошибки, неправомерный перенос каких-то идей на другие области, скажем натуралистский, или еще какой-то. Тогда возникает вопрос, что могут существовать идеи, которые гомоморфны только определенному типу ситуации, что ли.
В.М. – Да.
К. А. – Тогда процедура абсолютизации не может… она сугубо процедурна…
Т. В. – Слово плохое, абсолютизация, понимаете?
В.М. – Нет, не плохое слово. Я говорю: абсолютизация есть процедура.
К. А. – Нет, я не говорю в духе Платона…
В.М. – Идеи не абсолютны, точно. Идеи локализованы определенным образом, как бы и у них есть разные способы локализации. По крайней мере, идеи локализованы до способа философствования с ним, скажем так. Ну, например, скажем, онтология. Идея онтологии, она когда-нибудь исчерпывается, если ситуация кончается и т.д. В этом смысле онтология сама по себе никуда не исчезает, мы её абсолютизировали, она у нас на доске и в идеальном плане существует, и в культуре. Так или иначе, к этому можно возвращаться, читать, можно даже, наверное, актуализировать её и новую онтологию возродить и т.д. Но в отличие от платоновских идей, я должен сказать: идеи конечны.
С. М. – Идеи. А философствование? А философствование получается, что это какая-то там бесконечная машинка?
В.М. – Ну вот смотри, я уже обещал не говорить здесь ничего теологического, о религии и т.д. Бесконечность есть вещь достижимая, к этому стремиться надо. И все эти штуки, например, как абсолютность: абсолютность получается в результате абсолютизации. Если мы хотим чего-то продлевать, чтобы длилось без конца, его надо длить — и это специальная работа. Поэтому институт философии смертен, как и всё созданное людьми, если мы специально не заботимся об этих вещах. Как огонь, пылающий в пещере: потухнет, а эти чайники-троглодиты не умеют его поджигать — зажигалок у них не завезли. Поэтому они все и загнутся. А если они хотят жить, они должны поддерживать его. Почему надо заниматься диалектикой? – говорю я. Потому что в данном случае, если мы хотим, чтобы оно жило, чтобы Беларусь оказывалась Европе, стала европейской страной, мы должны поддерживать этот огонь.
Андрей, в этом смысле, понимаешь, какая вещь. Очень красивый пример вот этой «открутки» назад – к идее – делает Фуко с Просвещением, апеллируя к Канту и Мендельсону. Просто потому, что очень коротенькая и хорошая иллюстрация в этом смысле. Но при этом, обратите внимание, там появляется Бодлер и всякая трасца со всеми этими вещами. Он это делает, не пренебрегая тавтологией. И в этом смысле препарировать эту штуку можно с двух сторон: с одной стороны, что делает Фуко? Он занимается тавтологией, он пересказывает идею, возникшую на разрыве представлений Канта и Мендельсона. В то же время он всё это раскручивает назад, доходя от всей дури, которую мы знаем про Просвещение, нагороженной за двести лет, к идее Просвещения. И эта идея оказывается достаточно пустоватой и в содержательном, и в объёмном плане. Ну, когда он начинает играть с идеей взросления кантовской и т.д.
Ещё? Спасибо за внимание.